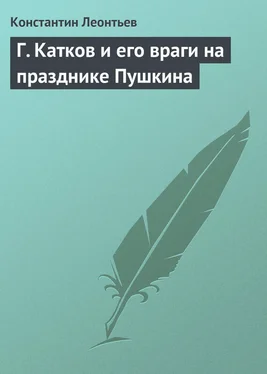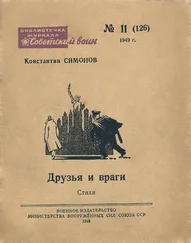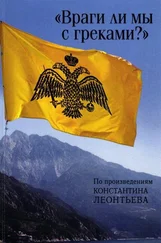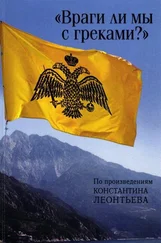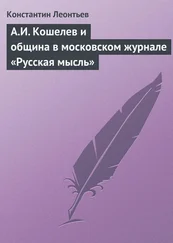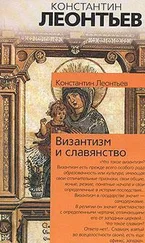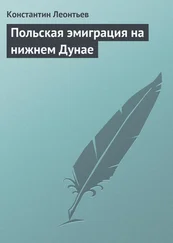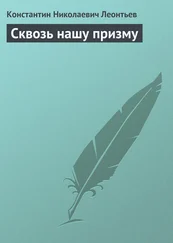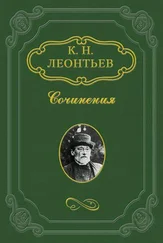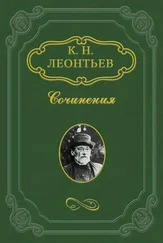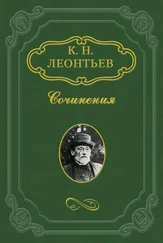Не испорченный ложными идеями свободы русский простой человек скорее поймет дух «Московских ведомостей», чем дух «Беседы», «Голоса», «Молвы» (ибо это все, в сущности, одно и то же).
Публицисту «Московских ведомостей» более других принадлежит первое место на празднике поэта, который тоже был народен в лучшую и зрелую пору своего творчества и которого силятся теперь (под покровом закона) сделать популярным, вероятно, вовсе не для того, чтобы народ понимал и читал «Клеветникам России», «Полтаву» и переложение молитвы «Отцы пустынники и жены непорочны», а для того, чтобы до него дошли такие минутные вспышки переменчивого и разнообразного гения, как стихотворение:
Беги! Сокройся от очей Цитеры, слабая царица!..
Такие мысли волновали меня, и больше всего я досадовал при этом именно на того человека, которому я сочувствовал и которого ценю так высоко, на г. Каткова. Но впоследствии я понял, что он не сделал никакой ошибки. Он был прав, предлагая примирение в виде опыта! Его речь была пробным камнем, обнаружившим все упорство и ослепление его противников.
И правая сторона может делать первый шаг к примирению, в надежде, что противники не враги, а только заблудшие люди, способные к добросовестному покаянию в неправдах своих.
И тут г. Катков доказал еще раз всю практическую дальновидность своего ума. Примирение невозможно. Примирение требует уступок; но разве могут уступать что-нибудь из своих священных убеждений г. Катков и его единомышленники, которых так мало в печати, но в нации такое великое множество? «Вот такая уступка была бы действительным предательством со стороны московского публициста!»
Я еще не кончил о редакторе «Московских ведомостей» и его противниках… Г. Катков стоит так одиноко и на такой высоте среди деятелей политической печати нашей, имя его в течение стольких лет было так тесно связано со всеми замечательными событиями современной истории русской, что говорить о нем и его врагах почти то же, что говорить о нашем государстве и его недоброжелателях, его изменниках (по злобе ли или недоразумению и глупости – не все ли равно). Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить\'.. На что нам Россия не самодержавная и не православная?
На что нам такая Россия, в которой бы в самых глухих селах утратились бы последние остатки национальных преданий?..
Такой России служить или такой России подчиняться можно разве по нужде и дурному страху (я говорю дурному, ибо есть страх добрый, честный и высокий, страх полурелигиозный, растворенный любовью, тот род страха, который ощущает и теперь еще истинный русский при одном имени русского Царя)… И вот о том-то именно и заботился г. Катков, чтобы теперешняя Россия, в которой кое-что прежнее еще хранится, не стала бы вполне такой новой Россией, неприглядной и недостойной уважения.
Впрочем, прежде нас «Берег», в резкой и твердой статье, напомнил об истинно великих заслугах Каткова и об его спасительной инициативе в тяжкие минуты колебаний и общей растерянности. Неужели все это ничего не значит в глазах противников московского публициста?
И не прав ли я был, говоря, что враги г. Каткова – враги государству?
О! Если бы они были только личные враги ему! Отчего же не ненавидеть за что-нибудь лично человека сильного, может быть, иногда даже и жестокого в своей твердости и энергии?.. Без некоторой степени каприза или того, что зовется нынче так узко «самодурством», невозможно развитие гения или сильного практического таланта. Поэтому и проистекающие из личных столкновений досада и ненависть не перестанут обуревать людей до скончания века или, по крайней мере, до тех пор, пока не сбудется пророчество Достоевского, «пока славяне не научат все человечество той всечеловеческой любви», которую не могли безусловно утвердить в людских сердцах ни Св. Отцы, ни Апостолы, ни даже Сам Божественный Искупитель.
Пусть бы, говорю я, ненавидели М. Н. Каткова, это ничего. Это грех, положим; но возможно ли приложение духовной или церковной мерки к издателям «Голоса», или к автору «Дыма» и «Нови»?..
Нельзя метать духовный «бисер» перед людьми, доказавшими свое неверие. Поэтому обратимся лучше к чисто общественному значению личной вражды.
Чисто личные интриги, личная борьба и ненависть никогда еще не разрушали обществ; а разрушались общества тогда, когда с личной ненавистью соединялись какие-нибудь негосударственные идеи…
Читать дальше