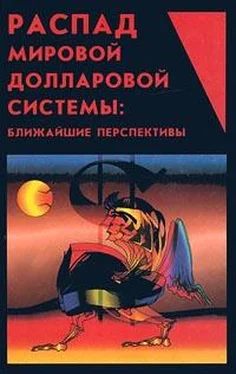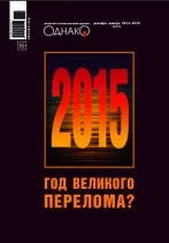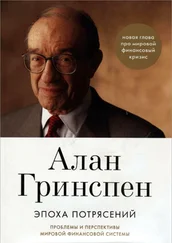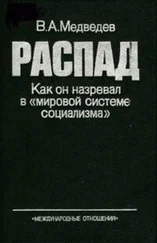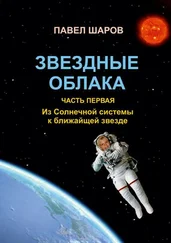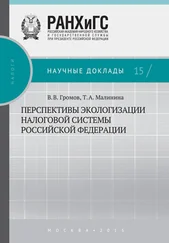Почему же мы упрямо не хотим считать Россию просто артефактом, мертвым предметом мировой культуры, оригинальным элементом дизайна, который полезен для сохранения комфортного разнообразия, но сам по себе не имеет никакого практического значения?
Что, кроме гипертрофированного самомнения и стремления к психологическому комфорту, еще позволяет нам считать разговоры о роли России в мире (о величии говорить уже просто неприлично) чем-то большим, чем просто натужным предсмертным бредом?
Ответ одновременно банален и парадоксален: значительный технологический задел, синтез совершенно новых, казавшихся ранее невозможными технологий, который был создан в России в самые, казалось бы, не подходящие для этого 90-е годы — время всеобщего развала и распада, массовой деградации.
Автор полностью разделяет брезгливое отношение любого нормального человека к заклинаниям подозрительных чиновников и замшелых академиков о "прорывных технологиях", "мировом уровне" и "великом технологическом заделе". Реформы сделали свое дело: деградировавшая и распадающаяся Россия не сможет освоить и даже воспроизвести то, что делал (и тем более начинал делать) Советский Союз. Например, мы уже лет пять как лишились возможности сделать еще один "Буран": для этого нет не то что отдельных производств — для этого нет уже целого ряда необходимых отраслей!
Сегодня призывы типа: "дайте нам сто миллиардов долларов, и мы перевернем землю", "дайте полтора миллиарда, и небо Канады будет принадлежать российским экранолетам", — не вызывают уже больше никаких эмоций. Точно так же, как не вызывают их еще живые тела бомжей, безнадежно лежащие на улицах и в приемных больниц.
И дело не только в том, что больших денег для развития технологий нет. Главная беда в том, что ими в принципе не умеют управлять и используют потому крайне неэффективно: от строительства нелепо роскошных храмов и других административных зданий вплоть до прямого разворовывания (блистательной иллюстрацией чему служит, насколько можно понять, современная российская космонавтика).
Можно и нужно заниматься преодолением этих проблем, вырывая скудные ресурсы у разнообразных уничтожающих их структур и концентрируя на реализации важнейших и наименее затратных технологических наработок. Огромное технологическое наследие Советского Союза необходимо сохранить и освоить, но это отнюдь не является магистральным путем технологического развития. Важно помнить, что всякая проблема — это одновременно и возможность. Вершиной достижений СССР был традиционный high-tech, не только избыточно, нерыночно затратный, но и заведомо уступающий по своей эффективности на порядок менее затратным технологиям high-hume, проявившимся уже после распада нашей страны.
Концентрировать сегодня все силы на "доводке" начатого СССР — значит самим, исходя из ложно понятого сыновнего долга, загонять себя во вчерашний день, закрывая себе доступ к наиболее эффективным технологиям сегодняшнего дня — high-hume, и заранее обрекая себя на упущенную прибыль. Путь России — технологии high-hume, одновременно наименее затратные и наиболее эффективные. Их специфика требует сетевого подхода к организации разработки на основе гибкой кооперации большого количества небольших групп.
С появлением информационных технологий наполеоновские "большие батальоны" больше не делают историю, и фатальное для нашей культуры неумение гибко управлять большими структурами перестает быть преградой для развития. С другой стороны, патологический индивидуализм русских или советских людей (социологическими исследованиями доказано, что русские — значительно большие индивидуалисты, чем считающиеся эталоном в этом отношении американцы) из встроенного дестабилизатора любой системы при переходе на сетевой принцип становится средством повышения ее эффективности (самоэксплуатация в мелком личном хозяйстве всегда выше, чем эксплуатация других в крупном хозяйстве).
Удивительно то, что в 90-е годы прекращение финансирования и связанное с этим разрушение научной бюрократии привело не только к общему разрушению научного потенциала, но и, как это произошло в 20-е годы, к совершенно неожиданному синтезу новых знаний, подстегнутому разрушением ведомственных границ и части преград, связанных с секретностью. Очень многие из этих наработок ушли в развитые страны и легли в основу их технологического рывка. Однако многие остались и были в целом успешно доработаны разнообразными коммерческими структурами, понявшими, что продавать продукт технологии значительно лучше, чем саму технологию.
Читать дальше