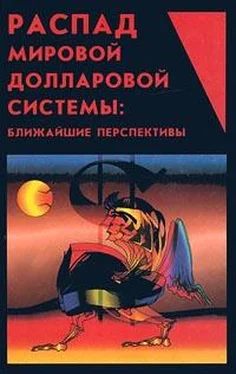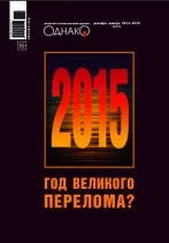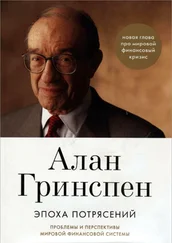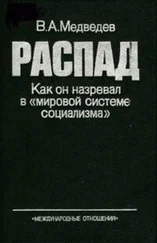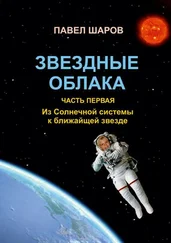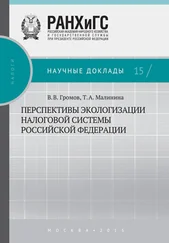Да, перспективы глобального кризиса рисуют для России не самые радужные перспективы. Но среди них существует одна, наиболее страшная угроза, от которой никуда не уйти — это угроза, связанная с глобальной ресурсно-экологической нестабильностью. Здесь пойдет банальная борьба за жизнь, и никакие игры никому не помогут. Поэтому самой большой нашей бедой сегодня является отсутствие стратегии как следствие отсутствия политического субъекта. Не видно пока никаких организованных социальных сил, даже локальных групп, которые бы начали реализовывать любую стратегию. Все следуют каким-то инерционным тенденциям. Вот в этом и заключается общая российская стратегия сегодня: инерционная тенденция и сиюминутная реакция на сиюминутный прорыв. Поэтому в ближайшей перспективе России, когда она будет поставлена перед необходимостью уже не просто выживать, а активно бороться за жизнь, я сильно сомневаюсь. Мы можем не справиться с этим вызовом, но можем и справиться. По крайней мере такой шанс еще существует. И он связан с атакой на мировые "правила игры". Это, безусловно, крайне сложное условие, но без его выполнения нам себя не реализовать. И нет никаких гарантий, что мы его выполним. Потому что предложенные здесь в качестве вариантов "закрывающие технологии" или "компьютерные атаки" на самом деле ничего не решают, это другой уровень войны.
Реальной атакой была бы, например, атака на принцип интеллектуальной собственности, провозглашение полной информационной открытости России плюс поддержка новых индустриальных стран в их борьбе за позиции на мировом рынке. Поскольку США сегодня господствуют в мировой экономике за счет ресурса своих научно-технологических разработок, то именно по этой самой сильной позиции и должен быть нанесен наш удар. Потому что, рассредоточив силы по второстепенным направлениям, мы не подорвем мировую гегемонию США и не навяжем им собственную инициативу.
Проблема заключается не в наличном у Российской Федерации научно-технологическом потенциале. Особенностью СССР и России, их ахиллесовой пятой всегда была оторванность фундаментальных научных исследований и разработок от их прикладного внедрения. Но в то же время это обеспечивало способность нашей науки вести широким фронтом исследования при огромном количестве брака и мусора. Именно поэтому Россия до сих пор остается второй в мире державой в области фундаментального знания. Это место мы можем отдать другим, и очень скоро. А можем и никому не отдавать.
Существует старый анекдот, что и марксизм, и сионизм придумали евреи, но сионизм для себя, а марксизм — для других. Аналогично можно сказать, что и неолиберализм, и институционализм придумали американцы, но институционализм — для себя, а неолиберализм — для других. Вся эта пресловутая глобализация со всеми ее, как любят утверждать, объективными процессами есть попросту международный режим внешней торговли. А с международным режимом возможно работать только политическими, а отнюдь не экономическими средствами. И в этом смысле я позволю себе высказать несколько содержательных тезисов.
Во-первых, мы сталкиваемся с политикой государств и с политикой транснациональных корпораций. Во-вторых, их интересы не обязаны совпадать. И в-третьих, если в политической борьбе сталкиваются государства и транснациональные корпорации, то очень высока вероятность того, что в ста процентах случаев победит государство. Потому что, за исключением того чудесного места, где мы имеем счастье жить и любить свою замечательную Родину, во всех остальных странах мира, где государство существует, даже в Парагвае, корпорация всегда уязвимее государства. И требуются особые культурно-политические условия, чтобы ситуация в этом отношении изменилась.
Проблема заключается в том, что все авторы книги и даже все выступавшие здесь, за исключением Андрея Калганова, заняли позицию политического аналитика, то есть позицию несколько циничную. Исходя из нее, воспроизводится ситуация всеобщей игры всех против всех, и даются разве что советы, как "нашим" играть против "ненаших". Только идея смены правил игры, высказанная здесь Калгановым, является идеей побеждающей: не только в долгосрочном плане, что происходит всегда, но зачастую и в среднесрочном, а изредка — даже в краткосрочном.
И здесь действительно мы натыкаемся на полное отсутствие у нас политического субъекта. Какой это может быть субъект — разговор особый. Где-то и когда-то в его роли может выступать папский престол, III Интернационал, Индийский национальный конгресс или даже Индия в роли союзника и "старшего брата". У нас до сих пор нет своего правительства, нет своего президента, хотя определенные иллюзии и надежды относительно Путина здесь существуют. Поскольку лично я не Президент России и даже не начальник вновь созданного управления деприватизации, то я за них говорить не могу.
Читать дальше