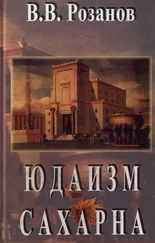В. В. Розанов
Ответ г. Владимиру Соловьеву [1] См. его «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. Февраль. 1894).
В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского вестника» [2] Розанов В. Свобода и вера // Русский вестник. 1894. Январь. С. 265–285. Эта подвергшаяся критике статья была написана Розановым по поводу статьи: Соловьев Вл. Исторический сфинкс // Вестник Европы. 1893. № 7.
, я попытался установить границы так называемой внешней свободы, — в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется своими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать; требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятельность у него есть назначено.
Так изложенный, этот взгляд и есть, и может быть понят только как направленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отрицанием жизни; и в законы бытия его все, живущее какою-либо верою, утверждением так же не может проникнуть, и не должно, как он сам, разрушая все живое, не проникает в смысл особых, в нем лежащих, утверждений. И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против нее перевес, — я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Статья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Непреднамеренно, я произнес слово, которое всего нужнее было произнести, — и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия, разложения, я произнес слово: нетерпимость, конечно, лишь слабость моих слов, неслышность моего голоса была больна, а не самый смысл слова. Но если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности переносить его вид» [3] Именно эти выражения, тщательно выбирая из моей статьи и подчеркивая их, г. Вл. Соловьев считает особенно… неприличными? страшными? По тому или другому, но только доносит о них своей «публике»; см.: Вестник Европы. С. 912.
.
Мой противник называет это «законом жизни животной» [4] Там же. С. 911.
; он не находит слов, достаточно сильных, чтобы заклеймить его [5] «Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы наверно в том же смысле»… «Иудушка не был бы самим собою, если бы зверообразно дикую сущность своей веры или своего закона жизни излагал прямодушно от своего собственного имени, или от имени единомышленных ему зверей и диких людей. По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский (почему не готтентотский?) субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине», и. т. д. (с. 911).
; и, наконец, просто отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою [6] В эпиграфе своей статьи против меня (и следовательно, как бы определяя цельный смысл моей статьи) он говорит: «Ишь ведь как пишет! Ишь как языком-то вертит! Ни одного-то ведь слова верного нет! Все-то он лжет!.. ничего он этого не чувствует» (Там же. С. 906).
. И, между тем, этою слепотой своего негодования он именно подтверждает его как вечный исторический закон, через который мы не только не переступаем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он очевидно так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю, — и даже не признаю его смыслом жизни, но только косного бытия, как давление камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая без внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною принцип, без сомнения, он противополагает «закон жизни подблагодатной»: но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту минуту отрицаю принципы индифферентизма? Разве он видел в его подвигах что-нибудь кроме смелых преступлений, в добродетелях — кроме красивых пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в согласие, выбирал, что бы из своего соединить с чем-нибудь, что есть там, в «закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не понял главный смысл утверждений Спасителя; что ни терпение мертвое, ни нетерпение
Читать дальше