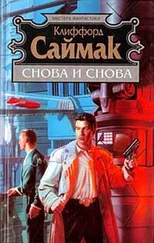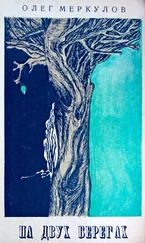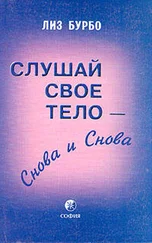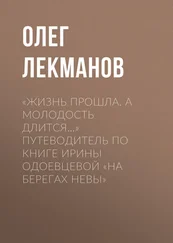Дай им волю, они будут до скончания века продолжать нашу былую гражданскую войну. Под пером таких "специалистов" русские писатели с их мучительными судьбами, заблуждениями, поисками истины и ответов так и будут оставаться закоренелыми врагами своего отечества и народа, выбранного им государственно-политического строя. Мы все дальше - исторически - от момента разлома, сотрясшего старый мир, заложившего по-новому его краеугольные камни. Так как же можно, оглядываясь назад, обойтись нам без корректировки зрения? В русской зарубежной литературе найдется не много книг, в. которых с такой убедительностью удалось бы запечатлеть драматическое безотечество эмиграции, как в мемуарах И. Одоевцевой. Вот почему ее приезд на родину и настоящее издание ее книги первой, но, будем уповать, не последней - уже по праву родства сулят возвращение нашей культуре и словесности не одного, а трех крупных литературных имен.
В коллективном портрете русской литературной эмиграции во Франции довоенных и первых послевоенных лет мне хотелось бы выделить три портрета, связанных, в буквальном смысле слова, литературным родством,- Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Яков Горбов.
Одоевцева Ирина Владимировна (урожденная Ираида Густавовна Гейнике, литературный псевдоним выбран по имени матери; родилась в 1895 году) - поэт и писатель. Автор многих поэтических сборников ("Двор чудес", "Контрапункт", "Стихи, написанные во время болезни", "Десять лет", "Златая цепь", "Портрет в рифмованной раме"), повестей и романов, таких, как "Ангел смерти", "Изольда", "Год жизни", "Зеркало", "Оставь надежду навсегда". Особую ценность представляют ее мемуары "На берегах Невы" (1967) и "На берегах Сены" (1983). В апреле 1987 года по приглашению Союза писателей СССР вернулась в Ленинград. Шестьдесят пять лет пролегло между вышедшим здесь, на берегах Невы, ее первым поэтическим сборником "Двор чудес" и книгой, которую вы, читатель, держите в руках сейчас...
Три с половиной десятка лет длилась совместная жизнь - и, конечно, совместная литературная деятельность - Ирины Одоевцевой и Георгия Иванова, скончавшегося во Франции в 1958 году.
Набоков однажды заметил: "И Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову, двум незаурядным поэтам, никогда не следовало бы баловаться прозой".
Действительно, все, что ни выходило из-под пера Георгия Иванова в виде прозы, приносило ему только "антиславу", в то время как, наоборот, в поэзии, особенно после войны, его стали называть лучшим русским зарубежным поэтом (как бы оттеняя от Бориса Пастернака).
Печать нигилизма легла уже на мемуары Иванова "Петербургские зимы" и особенно отчетливо проявилась в книжке, изданной в количестве всего 200 экземпляров,- "Распад атома" (1938). Это в открытой форме манифест нигилизма и отрицания искусства, человека, морали. "Георгия Иванова сделали большим поэтом именно трагическая безысходность эмиграции, ощущение постоянной боли и нехватка воздуха",- писал в журнале "Огонек", No 27, 1988 г. поэт Евгений Евтушенко. Простота его стихов обманчива: на самом деле они очень искусны, говорят о незаурядном мастерстве.
В конце 70-х Ирина Владимировна Одоевцева соединила свою жизнь с писателем, литературным критиком Горбовым Яковом Николаевичем (1894-1981). Сын купца-миллионера из Мытищ, он окончил в Париже два высших учебных заведения: Высшую техническую школу и Школу общественных наук. Работал таксистом, ушел добровольцем на фронт, был ранен. После войны опять вернулся к работе в такси и написал на стоянках роман "Осужденные" - на французском языке, который в 1954 году недобрал одного голоса до Гонкуровской премии и был отмечен специальной премией четырех жюри. Последовали еще два "французских" романа, затем "русские": "Асунта", "Все отношения", "Второе пришествие". Широкому советскому читателю это имя пока не известно - открытие его впереди.
Но, конечно, литературное родство этих людей куда более широкое и представительное. Не зря само время как бы выбрало Ирину Владимировну на роль старейшины ее литературного поколения, где так много блистательных имен. Они возвращаются к нам с другого конца истории, где - иначе, чем мы, дома,- на собственном опыте проверили, убедились, прониклись правдой тех же истин и ценностей. О пережитой ими драме, о не утраченной ими вере талантливо и честно повествует книга "На берегах Сены", последняя глава которой - и единственная во всей книге - автобиографична от начала до конца. В 91 год Ирина Владимировна Одоевцева вернулась на родину. Итак, снова на берегах Невы...
Читать дальше