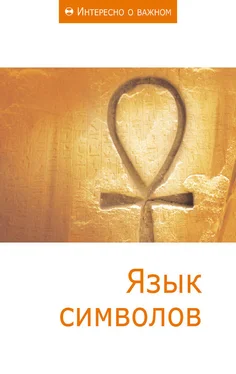Магия жизненного круга
Ирина Хаустова
Современный человек относится к сказке как… к сказке, то есть тому, чего в жизни не бывает. Однако были времена, когда она служила руководством к действию в повседневной жизни людей.
В это, конечно, верится с трудом. Ну, в самом деле, кто будет давать жениху целую серию трудных задач , способных превратить сватовство в сражение «не на жизнь, а на смерть»? Или после свадьбы устраивать невесткам настоящий экзамен, как в сказке о Царевне-лягушке? Помните, царь требует от невесток за одну ночь испечь каравай белый да пышный, а в другую соткать ковер из шелка и золота. И печет Царевна-лягушка чудо-каравай, изукрашенный узорами мудреными: по бокам – города с дворцами, садами да башнями, сверху – «птицы летучие», снизу – «звери рыскучие». А уж ковер и вовсе на диво вы шел – целый мир сотворила на нем умелица! Или сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»: в ней уже Иван-царевич должен по велению морского царя за одну ночь поле вспахать, рожь посеять, да чтобы за ночь выросла она так высоко, чтобы галка могла схорониться, «да чтоб все вызрело, да муку смололи, да хлебы выпекли»; в другую ночь должен он построить дворец и мост хрустальный, чтоб «к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое и чтоб оттуда до нашего дворца сделан мост золотой».
Ясно, что без волшебства герои с такими непростыми заданиями не справляются. Но даже в тех случаях, когда героиня просто на продажу ткет полотно и потом шьет рубашки всем на удивление, делается это за одну ночь и приводит к изменению судьбы героев. При этом созданная вещь проходит почти полный жизненный цикл. То, что в жизни требует длительного времени, порой не зависящего от человека, в сказке спрессовывается – начало и конец сближаются до одной ночи, дня, может быть, суток, и происходят чудеса, казавшееся нереальным осуществляется.
А теперь совершим прогулку по Москве. В начале Остоженки с левой стороны два Обыденных переулка, 1-й и 2-й, направляясь к Москве-реке (а в давние времена к стенам Белого города), упираются в 3-й Обыденный переулок. Любимая нами старая Москва с ее обычными, заурядными, будничными, одним словом, типичными московскими переулочками… Название свое они берут от церкви во имя Ильи Пророка, или Ильи Обыденного. Летопись говорит, что в 1612 году «князь Дмитрий же Михайлович с своей стороны ста у Москвы-реки, у Ильи Обыденного». Тогда это была деревянная церквушка, сейчас стоит каменный храм XVIII века. Почему же Илья Обыде ′ нный? Почему заурядный, будничный, повседневный? Но попробуем переставить ударение на один слог: «Обыденный» – и смысл изменится. В толковом словаре В. Даля найдем значение: «однодневный, одноденный, суточный, в один день сделанный». Храм действительно построили за один день, уповая на чудо, в надежде прекратить жестокую и длительную засуху, которая свирепствовала в конце XVI века.
В те давние времена верили, что замкнутый жизненный цикл обладает особыми свойствами, особой силой.
На Руси, как отмечает известный этнограф и языковед Н. И. Толстой, были распространены особого рода житийные фольклорные произведения – песни, связанные с полной мучений жизнью на земле льна, конопли. Мы знаем эти песни: «А мы просо сеяли, сеяли…», «Уж я сеяла, сеяла ленок…» – пока вставшие в хоровод девушки пели песню, кто-то в середине круга изображал весь жизненный цикл льна от посева до изготовления изделия, когда лен «мучили»: мяли, драли, топтали, сучили, пряли, ткали и так далее. Такие песни, по представлениям, могли прекратить засуху, вызвать дождь. В некоторых областях те же песни известны как отгонные заклинания, заговоры от болезни и как календарные обрядовые песни.
Магия завершенного жизненного цикла, жития растений и вещей лежит в основе и целого ряда ритуальных и обрядовых действий. К ним в первую очередь относится изготовление обыденных предметов: рубах, полотенец, крестов, церквей. Этнограф Д. К. Зеленин описывает собранные в конце XIX – начале XX веков остатки этих обрядов. Использовались они против мора и эпизоотий. Все происходило в глубокой тайне: несколько девушек или пожилых женщин собирались ночью в одной из изб деревни ближе к окраине, каждая приходила с куделью льна. Они дружно, но в глубоком молчании принимались за работу: пряли лен, сновали основу, ставили кросна и ткали полотно. Когда полотно было готово, все жители выходили за деревню и обходили ее кругом. После этого на том месте, с которого вышли, раскладывали небольшой огонь из щепок или лучинок, принесенных с каждого двора. И пока две девушки держали полотно над огнем, все жители проходили через эти «ворота» и проносили детей и больных, а при необходимости и скот. (Изготовленное полотно могли прибить к дороге, со стороны которой ждали болезни и мор, по нему могли прогонять скот.) Затем полотно сжигали в том же огне, а иногда и все орудия труда, использовавшиеся при изготовлении полотна. Так что от него не оставалось никаких следов – полотно было таинственным образом изготовлено и так же таинственно исчезало. Перед войной или призывом в армию таким же способом делалась рубаха, и все уходившие из деревни мужчины проходили через эту рубаху, оставляя на себе ее защитные свойства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу