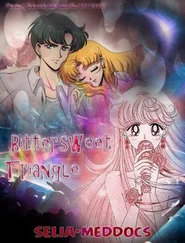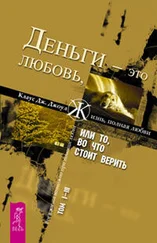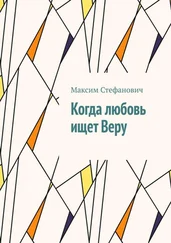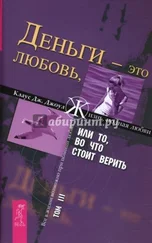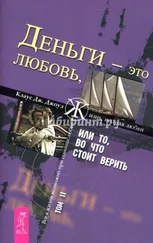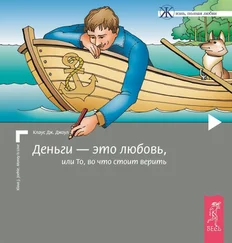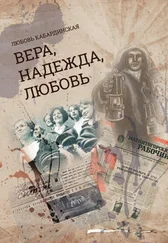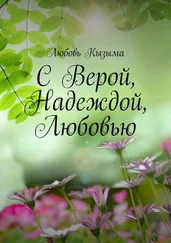Н Богомолов - Любовь - всегдашняя моя вера
Здесь есть возможность читать онлайн «Н Богомолов - Любовь - всегдашняя моя вера» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Любовь - всегдашняя моя вера
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Любовь - всегдашняя моя вера: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Любовь - всегдашняя моя вера»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Любовь - всегдашняя моя вера — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Любовь - всегдашняя моя вера», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
"И вольно я вздыхаю вновь.
Я - _детски_! - верю в совершенство.
Быть может... это не любовь...
Но так...
(непомерная пауза и - mit Nachdruck - всего существа!)
- _похоже_
(почти без голоса)
...на блаженство...
Незабвенное на _похоже_ и _так_ ударение, это было именно так похоже... на блаженство! Так только дети говорят: _так_ хочется! Так от всей души - и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех одетых и бронированных" {41}.
Такая "пластичность" голоса тем и хороша, что позволяет каждому видеть в поэзии Кузмина свое, индивидуальное. Каждому из читающих он оказывается особенно дорог какой-то стороной, которая другому, возможно, представляется излишней. Кому-то могут стать близки интонации чуть жеманные и стилизованные:
Кто был стройней в фигурах менуэта?
Кто лучше знал цветных шелков подбор?
Чей был безукоризненней пробор?
Увы, навеки скрылося все это...
Для кого-то Кузмин - это в первую очередь восторженное:
Воскресший дух - неумертвим,
Соблазн напрасен.
Мой вождь прекрасен, как серафим,
И путь мой - ясен.
Кому-то ближе Кузмин интимный и почти домашний:
Я посижу немного у Сережи,
Потом с сестрой, в столовой, у себя
С минутой каждой Вы мне все дороже,
Забыв меня, презревши, не любя.
И такое перебирание интонаций можно продолжать сколь УГОДНО долго, ибо их разнообразие - почти бесконечно. Когда исследователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые стихи Кузмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо определимое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное своеобразие, когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, "дикция".
Это строение кузминских стихов с безусловным господством свободы голоса, подчиняющей себе другие элементы стиха, заставляет внести коррективы в мнение современников о Кузмине.
Для читателя стихов начала двадцатого века было привычным свободное владение самыми различными твердыми формами, разнообразными экспериментальными размерами, смелые опыты в метрике, ритмике, рифмовке и пр. - все то, что внесли в литературу Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Вяч. Иванов и другие поэты-символисты. Кузмин мог бы продемонстрировать такое владение с не меньшим, а то и большим основанием, чем любой из названных авторов. Но если у всех его предшественников экспериментаторство предстает особым щегольством - "смотрите, как я умею!", - то для Кузмина оно так же естественно, как и стихотворение, написанное четверостишиями четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой. Если верлибр, о котором мы уже упоминали, у Блока или Брюсова воспринимается как осознанная система минус-приемов, то у Кузмина он включается в интонационное пространство традиционного стиха и потому звучит как совершенно естественная форма, ничем особым не выделяющаяся на фоне иных размеров.
То же самое относится и к любому другому элементу поэтической ткани, взятому в отдельности.
Кузмин мог бы считаться чемпионом сложного построения стиха, если бы это имело какое-то значение. Рассматривая отдельные элементы его поэтической системы, мы можем заметить, как изобретательно и художественно оправданно они применяются. Вспомним, к примеру, уже цитированную строфу из первого стихотворения "Любви этого лета", где внимательный читатель без труда замечает внутренние рифмы, соединяющие первую и вторую строки между собою еще теснее, но не так просто увидеть, что "Пьеро" в середине четвертой строки рифмуется с окончаниями третьей и пятой строк (и это не случайность, так как повторено во всех трех строфах).
А по соседству с этим - совсем другая строфа:
Зачем луна, поднявшись, розовеет,
И ветер веет, теплой неги полн,
И челн не чует змеиной зыби волн,
Когда мой дух все о тебе говеет?
Здесь также не очень просто заметить внутреннюю рифму в середине второй строки, поскольку она связана с концом, а не с серединой первой, но еще неожиданнее - полная рифмовка конца второй строки с началом третьей не в цезуре, где рифма ощущалась бы отчетливо, а просто так, по ходу движения стиха, без какого бы то ни было специального нажима.
Кузмин с легкостью строит сложно переплетенные строфы (например, в стихотворении "Двойная тень дней прошлых и грядущих..."), обращается к необычному рефренному построению ("Если мне скажут: "Ты должен идти на мученье...""), разрабатывает не только верлибр, но и вполне своеобразные, индивидуальные дольники ("Каждый вечер я смотрю с обрыва..." и мн. др.), пронизывает свои стихи отчетливой звукописью, никогда не становящейся назойливой, создает уникальные для русской поэзии строфы... {42} Но почти никогда этим экспериментам не придается какого-либо особого значения, они спрятаны в глубь стиха и заметны только при специальном анализе. Многие ли замечали, что открывающее "Сети" стихотворение "Мои предки", неоднократно попадавшее в хрестоматии и одно из самых известных массовому читателю, целиком состоит из одной фразы, протянувшейся на пятьдесят две строки, - и в этом нет ни малейшей искусственности, ни тени синтаксической натяжки?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Любовь - всегдашняя моя вера»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Любовь - всегдашняя моя вера» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Любовь - всегдашняя моя вера» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.