1 ...7 8 9 11 12 13 ...50 Дозморов О. Пробел. [Б. м., б. г.]. 32 с.
Эта неподражаемо плохо изданная книга, не имеющая никаких опознавательных знаков, тем не менее, достойна внимания читателя, буде он ее, сиротку без роду и издательства, где-нибудь обнаружит. На Урале не так уж много поэтов младше тридцати пяти лет, не испытавших влияния стихов Виталия Кальпиди. Екатеринбуржец Олег Дозморов – из их числа.
Его тихие, раздумчивые стихи, быть может, еще не совсем свободные от юношеских «размышлительно-рассуждательных» версификаций, но независимые не только от влияния мэтра новой уральской поэзии, но и от непременной для нынешних молодых провинциалов конвейерной иронии кибиризма, носят на себе отпечаток настоящего таланта. Дозморов простодушен, но это – «высокое простодушие», оно укоренено в русской поэтической традиции, имеет державинское, батюшковское происхождение. Отчасти мандельштамовское. В стихотворении «Я слов боюсь, что я хотел сказать…» Дозморов вступает в полемику с хрестоматийной «Ласточкой»; мандельштамовское «слово», «слепая ласточка» не прозревает, возвращается в «чертог теней», будучи не сказано, будучи «забыто», – екатеринбургский поэт свое слово произнести боится: «Я слов боюсь, что я хотел сказать», но произносит-таки его: «…но словом говорю о том, что слов боится». В конце концов, стихотворение Мандельштама – о душе («А на губах, как черный лед, горит / Стигийского воспоминанье звона»), а стихотворение Дозморова – о Культуре, стремящейся стать Природой: «…но шелест пожелтевшей старой книги / напомнит нам деревьев вечный шум». Вполне акмеистическое высказывание.
А вот название книги заставляет вспомнить уже символизм. «Пробел» – не просто зияние, отсутствие чего-то (в памяти, например), а (вполне в духе несколько неуклюжего словотворчества Андрея Белого: см. его «прозелени», «просини» и совсем уже невозможные «просерени») место, заполненное «белым», некоей мистической белой субстанцией; причем именно цвет символичен. «Белый» в поэтике Дозморова значит «божественный». В этих стихах почти все время идет снег. Стоит глубокая, мягкая тишина. Вокруг, возможно, Бог. Место, где он обитает, и есть, наверное, «пробел».
Кокотов А. Над черным зеркалом. СПб.: Борей-Art Центр, 1999. 68 с.
К сожалению, Алексей Кокотов не принадлежит к поэтам, хорошо известным читателю. Увы. Между тем, «Над черным зеркалом» – событие в отечественной поэзии; попытаюсь объяснить почему.
Большинство современных стихотворцев весьма неряшливы в размерах и рифмах, точнее, те (не очень многие) из них, которые вообще применяют размер и рифму. Можно, конечно, кивать на вездесущий Запад, выведший оные под корень. Или поминать километры правильно зарифмованных, расчетливо выверенных стихов, производимых на территории возлюбленного Отечества. Но речь не об этом. С Запада мы запросто вывезем «мерседесы», компьютеры, умение правильно потреблять текилу, но поэзия у нас своя, наша: ее мы должны сохранять в истинном и приличествующем ей виде, который придают именно размер с рифмой. С другой стороны, говоря о неряшливых поэтах, я именно «поэтов» и имел в виду, а не штатных стихопроизводителей. Книга Алексея Кокотова есть пример влюбленности настоящего поэта в русскую метрику и рифму.
«Над черным зеркалом» состоит из трех частей: собственно стихов, собранных под заглавием «Над черным зеркалом», и двух поэм: «Строфы Ионы, Пророка из Гафхефера» и «Кавказские строфы». Открывается книга несколькими стильными (и сильными!) сонетами (М. Л. Гаспаров отметил бы смешение в них «шекспировского» и «итальянского» типов); затем автор балует читателя другими стихотворными формами; отмечу, для примера, прекрасное стихотворение, начинающееся строчками: «Илья-пророк, под вечер бороздя / Повозкой небо, метил в нас октавой…» – излишне говорить, что состоит оно из двух октав. Замечателен также цикл «Русский квадрат» с его несколько неожиданно блоковским финалом: «И сбываются вещие сны. / К небу пламя встает на Востоке» и программные «Заносчивые ямбы». Из двух поэм, кажется, сильнее вторая, использующая четырехстопный хорей в русле традиций русской поэзии от «Бесов» и «Дорожных жалоб» Пушкина до «На высоком перевале…» Мандельштама: для «путевых», «путешественных» описаний.
Предвижу неизбежное ворчание по поводу «культурности» «Над черным зеркалом». Современная критика жаждет «подлинности» и «неискушенности». Кажется, скоро вспомнят и о «человеческом документе». Бог с ней, критикой, бедной жертвой деконструктивистской интоксикации. Культурность поэзии Кокотова совершенно естественна, чуть суховата, по-британски сдержанна; нет в ней и глумливой столичной центонности и холодного блеска питерского классицистического несессера. Все дело в местонахождении автора: он не снаружи Культуры, он – внутри.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
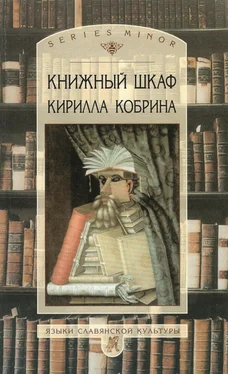

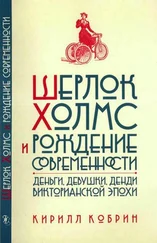

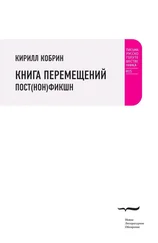
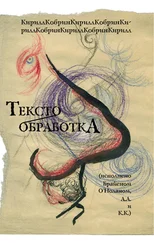
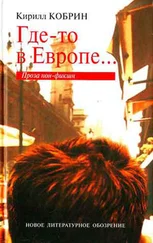

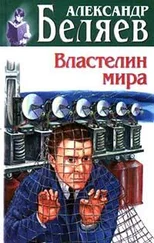
![Кирилл Кобрин - Поднебесный Экспресс [litres]](/books/398598/kirill-kobrin-podnebesnyj-ekspress-litres-thumb.webp)

