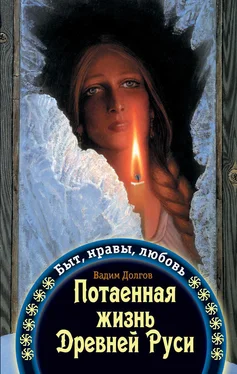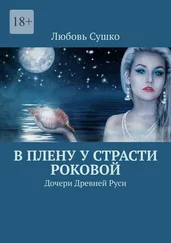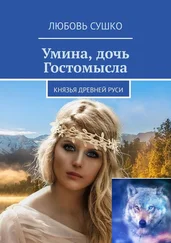Рассказ о силе нательного креста, идущий будто бы из уст языческого жреца, должен был выглядеть особенно убедительно. Летописец дистанцируется от рассказываемых событий, подает их с беспристрастным видом и позволяет себе комментарии только в самом конце. Они открываются выражением «яко ж и есть», что в данном контексте выглядит как «а ведь точно, так и есть». Кудесник сам свидетельствует против себя, монах-книжник только дополняет его саморазоблачительный рассказ о «богах из бездны», в которых каждый, без сомнения, узнавал «нечистую силу», учеными дополнениями.
Таким образом, получалось, что обыкновенный новгородец, с обыкновенным крестом, надетым на шею, сам того не ведая, оказался сильнее языческого кудесника и всех его богов, в которых читатель, следуя усиленным намекам летописца, должен был «узнать» бесов. Крест в летописном рассказе обладает самостоятельной силой, действующей независимо от моральных качеств владельца. В образе новгородца читатель мог представить любого не очень хорошего христианина, в том числе и себя самого. Крест защищает всякого, положиться на него может даже грешник. Правда, зона действия у него не очень велика – будучи вынесен из дома, он уже не сдерживает сомнительных чудских божеств. Значит, необходимо всегда держать этот защитный символ при себе.
Так же поступали и с языческими оберегами. При рождении на голове князя Всеслава Полоцкого оказалось какое-то «язвено» (видимо, послед), которое волхвы посоветовали матери навязать «нань, да носит е до живота своего». И, по словам летописца, Всеслав носил на себе этот «науз» «до сего дне». Очевидно, послед приобрел магические свойства потому, что Всеслав был рожден «от волхования», и закрепление его на теле должно было сохранить сверхъестественные обстоятельства рождения на всю жизнь.
Со временем языческий культ оберегов и христианский обычай носить нательный крест слились в единый синтетический комплекс, в котором почитание креста как главного символа христианства и культового предмета уже невозможно отделить от народных верований, где крест выступал и как солярный знак, и как символ мирового древа. Так, например, по этнографическим материалам известен обычай носить крест в сочетании с амулетами-оберегами (звериным зубом, когтем, змеиной головой и пр.). При лечении лихорадок надевали нательный крест, добытый из старой могилы. Известен совершавшийся весной обряд «крестить кукушку», которым отмечалась определенная календарная граница, смена сезонов и пр. Можно считать, что смешение двух традиций на Руси происходит уже в домонгольское время. Неслучайно рассказ летописца о случае обращения новгородца к услугам чудского волхва очень напоминает этнографические записи о том, что человек, снявший с себя крест, становится уязвимым для нечистой силы: купальщика может утянуть под воду водяной, моющегося в бане мог задушить или «запарить» банник, на спящего нападают ведьмы, кроме того, человека без креста могут защекотать русалки.
Иногда языческая и христианская традиции в практике изготовления защитных амулетов переплетались и образовывали причудливые сочетания. Так, например, в 1998 г. при раскопках на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве был найден фрагмент каменного топора эпохи энеолита (приблизительно 4 тыс. лет до н. э.), на котором в XII в. были выгравированы христианские изображения: на одной стороне изображена фигура Богоматери Знамение в рост (рисунок очень напоминает известную икону XII в. «Ярославскую Оранту»), на другой стороне – архидиакон св. Стефан в длинном стихаре. Размер каменного фрагмента невелик: длина – 5,1 см, ширина – 3,4 см, толщина – 2,2 см. В верхней части сделаны дополнительные канальчики и круговой паз для оковки, которые необходимы для крепления металлической оправы и цепочки или шнура. Таким образом, понятно, что названный предмет носили на теле и он служил своему владельцу защитным амулетом. Находка эта – не единственная в своем роде. Найдено несколько кремневых орудий, имеющих металлические оправы для того, чтобы носить их в качестве привесок.
Обычай носить каменные топоры, изготовленные в первобытную эпоху, в качестве амулетов объясняется тем, что предметы эти считались материальным остатком удара молнии, которая воспринималась древнеславянскими язычниками как оружие бога-громовержца Перуна. Значит, традиция эта уходит во времена до распространения христианства. Новая религия, однако, не смогла полностью вытеснить славянскую языческую традицию. Решение было найдено очень характерное для древнерусской культурной среды – на древний амулет были нанесены христианские изображения. Тем самым языческая составляющая топора-амулета была «прикрыта» вполне ортодоксальной символикой. Однако можно предполагать, что имплицитно представление о магической силе «стелы Перуна» сохранялось, «приплюсовываясь» к православной составляющей. Иначе не было бы смысла наносить образы Богородицы и святого именно на осколок топора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу