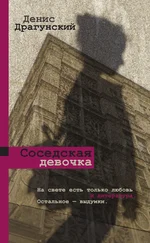И уж конечно, были сибариты и традиционалисты, которые протестовали против «кодексов» (книг в нынешнем виде, которые надо перелистывать). Им были привычнее «волюмены» (то есть свитки, которые надо было перематывать с палочки на палочку, а потом укладывать в футляр).
Кстати, переход от «волюмена» к «кодексу» был настоящей информационной революцией. Стало гораздо удобнее читать несколько книг сразу. Сопоставлять, переписывать, цитировать, компилировать, делать закладки, искать в тексте нужное место. Это было гораздо важнее, чем переход от рукописной книги к печатной.
Тем более что от манускриптов не отказались в одночасье. Печатная книга вытесняла рукописную постепенно, в течение столетий. Рукописные книги есть и сейчас. Например, девичьи альбомы. Или дневники, они же «ежедневники». Но при этом любому ясно, что манускрипт – это маргинальное явление.
Это я к тому, что традиционные бумажные книги тоже будут издаваться всегда. Но их будет всё меньше и меньше. С каждым годом они все сильнее и сильнее будут превращаться в игрушку, сувенир.
Конечно, сопротивляются не только простодушные консерваторы-читатели. Консерваторы-писатели тоже – до тех пор, пока не будет изобретена внятная система гонораров. И конечно, издатели и книготорговцы. Владельцы гужевого транспорта поначалу сопротивлялись паровозу и автомобилю. Но самые умные из них быстро перестроились, переделали свои каретные сараи в автомобильные фабрики и гаражи.
Но я, собственно, не о том.
Я о литературе.
Даже самому странно, зачем я написал такое длинное и скучное введение.
Наверное, потому, что я никак не решусь сказать то, что собрался. Слегка робею. И сам себя отвлекаю посторонними рассуждениями.
Однако вперед.
Цифровые технологии изменят не только способ хранения и передачи текста – они изменят самоё литературу. Дело не только в скорости и компактности. Дело в поисковых машинах, которые становятся все более и более мощными. Дело в «программах извлечения информации», которые сейчас активно разрабатываются.
Изменится не только литература настоящего и будущего. Литература прошлого – тоже (потому что прошлое существует в настоящем, и более нигде).
Литература – это довольно сложный, но в целом понятный и привычный организм. Писатели, издатели, массовые читатели, читатели – ценители и знатоки. Профессиональные критики, некоторые специальные институции (клубы, премии, фестивали). Но в центре литературы – суверенные тексты. Которые нельзя публиковать без спросу, сокращать и растягивать, резать на куски и продавать по кусочкам. Нельзя цитировать без ссылок, слишком уж нахально подражать, а тем более переписывать наново или включать в другие тексты и так далее.
Вся эта система, сложившаяся за последние две – две с половиной тысячи лет, рушится на наших глазах.
Во все времена хороших книг не хватало. Всегда оказывалось, что самые лучшие, самые нужные, самые важные книги уже распроданы (или запрещены властями). В общем, их нельзя достать. В советской стране книжный дефицит усугублялся нерыночной издательской политикой. Гонорар советского писателя зависел от тиража, но тираж далеко не всегда зависел от продаж: в дело вступали властные отношения и соображения идейности, партийности и прочей, как тогда говорилось, целесообразности. Хорошие книги издавались, но молниеносно сметались с прилавков. Книги плохие лежали мертвым грузом.
Спецраспределители были не только для дефицитных шмоток, но и для книг. Специальная книжная экспедиция (было такое учреждение) снабжала партийно-советскую номенклатуру Прустом и Кафкой, Шукшиным и Мандельштамом. Для советских творцов существовала «Книжная лавка писателей» со знаменитым вторым этажом, куда пускали только по членскому билету Союза писателей. В букинистических магазинах было либо никому не нужное старье, либо мало кому интересный антиквариат. Зато на тротуарах перед букинистическим всегда толпились книжные жучки, предлагавшие тех же Пруста с Кафкой из-под полы, в 5–10–20 раз дороже официальной цены, вытисненной на переплете.
Поэтому книгами стремились обладать. Купить и поставить на полку. Хорошая домашняя библиотека – главное достояние и главная гордость образованного человека. Оно и понятно: в читальный зал ходят по учебной или профессиональной необходимости; берут в библиотечном абонементе или у друзей только то, что никак иначе не достать. Но любимые книги должны быть собственными. Нужные справочники – тоже. Не побежишь ведь всякий раз в библиотеку, чтобы перелистать Чехова или заглянуть в словарь псевдонимов! Особая гордость – отцовские и дедовские книги. Не только гордость интеллигентскими корнями (о знаменитые «три университета»!), но еще и обладание книгами (точнее, текстами), которых сейчас не достанешь. Русская философия, поэты-акмеисты, Киплинг, Ницше, и пр., и пр.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
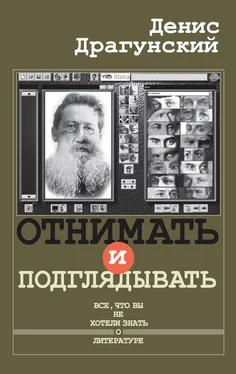



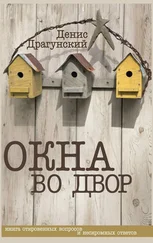
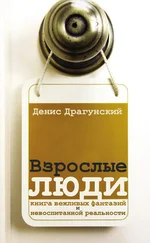
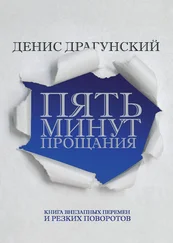
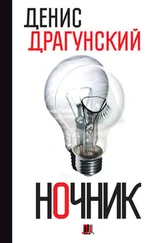
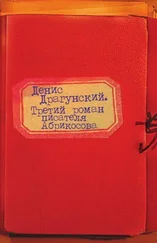
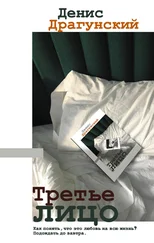
![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)