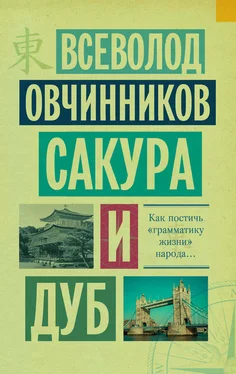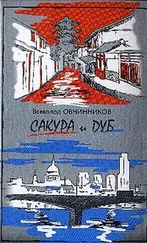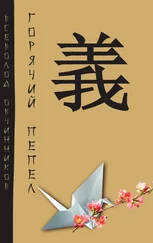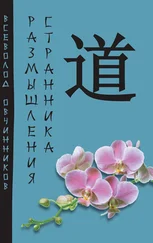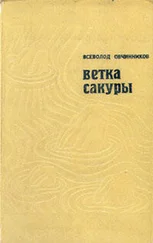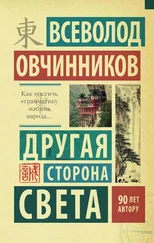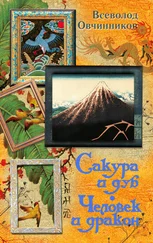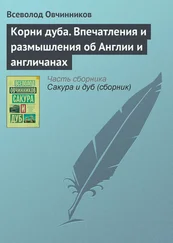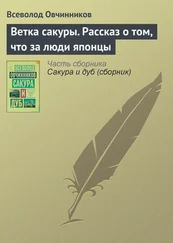В 50–80-х годах Япония побеждала конкурентов потому, что не жалела средств на покупку зарубежных лицензий и патентов, много инвестировала, много экспортировала, мало потребляла. В этих условиях было оправданным «царство групп» – система пожизненного найма, неизменный круг верных поставщиков и стабильных источников финансирования. Однако на фоне массированного внедрения информационных технологий произошла глобализация экономической деятельности. Это поставило под удар такие черты японской самобытности, как групповое мышление, клановая верность, самопожертвование ради общего блага. Информационные технологии как бы снизили роль человеческого фактора, который прежде помогал японцам побеждать конкурентов.
Качество программного обеспечения становится важнее верности рабочих своему предприятию или родственных отношений с поставщиками. Компьютерные сети заменили собой преимущества давних патриархальных уз. Теперь можно мгновенно передать заявку хоть на тысячу адресов и выбрать оптимальные предложения. Чем больше открытости в экономической деятельности, тем меньше оснований у фирм замыкаться лишь на свою финансово-промышленную группу как на единственный источник средств и тем больше соблазн добывать их самостоятельно на фондовом рынке. Чем острее конкуренция, тем меньше желания подчиняться жесткой дисциплине своей группы или какому бы то ни было государственному регулированию.
Создатель партии «Новые рубежи» Итиро Одзава, ратующий за реформирование традиционного японского образа жизни, часто приводит такое сравнение. Когда его соотечественники приезжают в США и видят Большой каньон, их больше всего поражает отсутствие каких-либо ограждений перед стометровым обрывом. С американской точки зрения, отмечает Одзава, каждый должен сам отвечать за себя. Тогда как, на взгляд японцев, власти обязаны всегда заботиться об их безопасности. Пожалуй, это удачная метафора. Со времени революции Мэйдзи в 1868 году японские компании привыкли чувствовать себя под защитой государства, словно торговые корабли в сопровождении конвоя. Привыкли к тому, что конкуренция допустима лишь в четко ограниченной зоне.
Непреходящей ценностью, неизменным приоритетом японцы склонны считать сохранение статус кво, анонимного общего согласия. Это не оставляет места ни для личной ответственности, ни для личной инициативы. Если американский культ успеха основан на том, что талант и усердие вознаграждаются, то у японцев не в обычае восхищаться теми, кто вырвался вперед, а наоборот, принято «бить по гвоздю, шляпка которого торчит из доски». Промышленная революция произошла в Японии раньше, чем революция интеллектуальная. Социальный консерватизм японского общества утверждал дисциплину и гармонию, поощрял усердие и обеспечивал стабильность, но блокировал новых людей и новые идеи.
К тому же основанное на состязательности американское общество дает всякому, кто потерпел неудачу, возможность вновь и вновь повторить попытку. В Японии же у неудачника практически нет шансов начать все сначала. Ибо тот моральный капитал, который человек приобрел благодаря длительному стажу на фирме, нельзя перенести на новое место работы.
Что же надо сделать, дабы вернуть японской экономике былой динамизм? По мнению таких реформаторов, как Одзава, для этого необходимо сократить государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность, полностью открыть внутренний рынок, либерализовать финансовую систему, продвигать людей по службе в зависимости от личных заслуг, а не от стажа, реформировать образование, перейти от унифицированных знаний к развитию у молодежи творческого начала, умению мыслить самостоятельно.
«Японское видение XXI века» – так называется документ, который в 2000 году подготовили для правительства лучшие умы страны. «Экономическая и социальная глобализация, информационно-технологическая революция, ускоряющийся прогресс науки, снижение рождаемости и старение населения в индустриальных странах – все это быстро меняет знакомый нам мир», – отмечают авторы доклада. Они делают вывод: изменившиеся условия требуют, чтобы Япония превратилась из «царства групп» в «царство личностей». Нельзя допускать, чтобы традиции и обычаи подавляли новые идеи и неординарные поступки.
В последние годы Японию прославили такие изобретения, как караоке и тамагочи. Однако Страна восходящего солнца до сих пор экспортирует вдвое меньше технологий, чем импортирует. Тогда как США продают вчетверо больше лицензий и патентов, чем покупают. Впрочем, положение отнюдь не безнадежно. Каждая третья японская семья имеет нынче персональный компьютер. Их теперь ежегодно раскупают по 10 миллионов штук – больше, чем телевизоров. Стремительно растет число мобильных телефонов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу