Это и в массе случаев не так. Но здесь и еще особый случай.
Здесь вовсе не склон лет. Это писал молодой человек двадцати трех лет, потом двадцати четырех…
«Недели две тому назад… в час ночи позвонил Мандельштам…»
«Горький недавно говорил…»
«Тынянов сказал вчера…»
Ах вот когда это было! Тогда. Недавно и вчера. Шестьдесят лет назад.
И вот как готов этот молодой человек к этим предстоящим шестидесяти годам:
«Юность – это время приготовлений к жизни, и притом приготовлений не по существу. Хотеть быть кондуктором для интеллигентского ребенка психологически обязательно, потому что юность – это пора, когда человек не знает своего будущего и не умеет подсчитывать время. Юность имеет занятия, но несовместима с профессией. В жизни человека есть период, когда он мыслит себя господином неисчерпаемого запаса времени… У взрослого человека время исчезает бесследно и навсегда. Так начинается приобщение к профессии».
Это пишет двадцатишестилетний. О блокаде напишет сорокалетний. Последние записи начнет человек пятидесятилетний.
И вот что будет написано через сорок лет после первых записей тем же человеком, не менее зрелым, но будто и не более старым:
«В старости не следует (по возможности) бояться смерти, потому что из теоретической области смерть перешла в практическую. В старости нельзя жаловаться, потому что кто-нибудь может в самом деле пожалеть… Нельзя опускать руки, потому что в старости этот жест чересчур естественный.
Мы завидуем молодости – нет, не ее весельям. Молодость мы испытали в свое время и знаем, как она нерадостна и пустынна. Мы завидуем праву ее на страх, на чужую жалость, на глупость, на слабость и слезы в ночи… Ей можно, потому что где-то, на большой глубине, она не уверена, что все окончательно и всерьез.
Вот какие права дарованы юности. Мы же, если хотим жить, должны быть очень бодрыми и гордыми».
Автор убедился в том, в чем был убежден с юности…
В той же последней книге «О старом и новом» переиздана и работа 1929 года «Вяземский и его “Записная книжка”». В строении книги она сознательно «зарифмована» с собственными записями. В этой прекрасной, упругой, молодой статье
«Записная книжка» обоснована как осознанный и выстроенный Вяземским жанр. Традицию русской эссеистики Л. Гинзбург постигает теоретически и принимает эстафету. Только – что вперед чего? «Записки» она начинает одновременно и ведет задолго до окончания работы над Вяземским. Наше шуточное предположение об «экспериментальном литературоведении», выдвинутое вначале, здесь оказалось не шуточным. Постичь законы прозы Вяземского исследователю удалось в результате собственного опыта. Прозаик Лидия Гинзбург здесь старше литературоведа. И что к чему окажется приложением – проза ли к литературоведению, сегодня доминирующему в сознании читателей Л. Гинзбург, или литературоведение к ее прозе, только начавшей проступать во времени, – неизвестно.
Настоящие заметки – еще не тот анализ, которого будет достойна эта растущая на наших глазах книга. Наша цель здесь – лишь обозначить в сознании читателя самостоятельное значение прозы Лидии Гинзбург.
1986
Постскриптум к долгожданной книге
Я еще помню, как мои бабушки… А что помнили мои бабушки? Октябрьских событий совершенно не заметили, вот что они запомнили. Одна еще будто помнила, что слышала какие-то отдаленные одиночные выстрелы, а другая и выстрелов не помнит. Потом, правда, заметнее стало… но тоже… не то что Сталина, Ленина имени не слыхали – всё Троцкий, Зиновьев… Ленин потом появился. Совсем из ума выжили, старые… – единственное оправдание и спасение.
И это тогда, когда все, не выжившие из ума и просто выжившие, уже не помнили, а знали, что на самом деле было.
Революции и войны выпуклы лишь в учебнике истории. А так… «Кто стреляет? В кого стреляет?» Кто-то куда-то пробежал, потом сразу много в другую сторону. Чью-то ногу оторвало… Хлеб в лужу упал. Вот-вот! Карточки украли. Две-три вспышки в бесконечном затемнении времени. Нескончаемость – вот признак исторического события.
Пройдет лет пятьдесят, и откроется, что было скрыто. «Перестройка» – условное слово. Как ее тогда назовут? Революция? Контрреволюция? Гражданская война?.. А что, кровь уже лилась…
Человек – свидетель событий в том случае, если уцелеет, переживет. Участник – не свидетель. Всё-то мы видим и понимаем потом.
Человек, видящий настоящее время, – еще реже, чем человек, прозревающий будущее. Это вам не экстрасенс какой-нибудь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
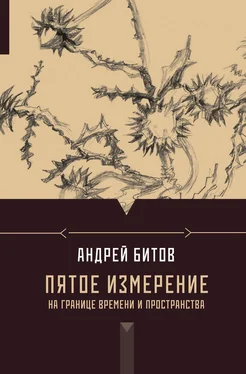

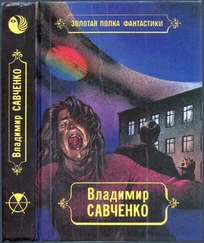



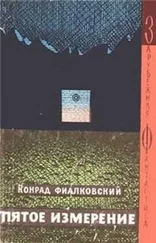
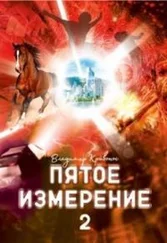
![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
