«“А ведь это может плохо кончиться”, – подумал… И вдруг струсил. Его руки струсили, его ноги струсили. И он сам струсил».
Прежде чем руки-ноги жены ушли от мужа в шедевре Г. С. «Маня», они ушли от попа в «Корове»:
«Он было пошевелил рукой, но рука не пошевелилась. Он было пошевелил ногой, но нога не пошевелилась…
– В чем же дело? – сказал поп. – Это чудо.
– Это чудо, – сказала толпа кулаков.
И вся толпа было пошевелила рукой, но рука не пошевелилась…
– Наши ноги не идут, – сказали они… – В чем же дело? Это чудо?
“Это чудо”, – хотел было ответить поп, но ничего не ответил, потому что его язык не ответил.
“Даже язык отказался от меня”, – уже было подумал он, но ничего не подумал, потому что ничего не подумал».
Колхоз оказался содержанием, а кулак – формой.
Их борьба отражена в искусстве соцреализма. У Гора как художника, как он ни старался, победила форма. Сюрреалист – соцреалиста.
То есть художник-то и выжил.
22 июня 2000, Сиверская
На днях говорю Тынянову, что работа над Вяземским подвигается плохо: мне не нравится все, что я пишу. Он: «Я уже давно в таком же положении». И при этом ухмыляется удовлетворенно.
Лидия Гинзбург, 1925 год
Я написать о Вяземском хотел…
Александр Кушнер
У ТОЧНЫХ И НЕТОЧНЫХ НАУК однажды оказалось все противоположно. Точные гордились, если не кичились, объективностью предмета изучения, своих посылок и выводов, относясь к гуманитарным наукам снисходительно, если не пренебрежительно, как и к впрямь неточным. Неточные испытывали комплекс, вставали в оборонительную позицию, настаивали на своей насущности, прежде дела вынуждены были оправдывать его. Точные были защищены непробиваемой броней: вы не понимаете, или вам не по уму… Неточные будто изучали то, что всем ясно и так, и без них понятно, и стоит ли… Между тем все давно поменяло знак в этом распределении: и точные зашли в своем развитии почти в гуманитарный туман, не заметив, что делением на человека и природу как нечто объективно существующее вне сами установили преграду между миром и человеком, а теперь в нее же и уперлись; неточные же, так и не отделив объект от субъекта, никуда от себя не ушли – тем же и заняты, только занятие это становится все более заманчивым и оправданным к концу века. О том, что точно, а что неточно, можно теперь еще и поспорить.
У точных и неточных наук и до сих пор все противоположно, кроме слова «наука». У точных, собственно, точен предмет, а не вывод; он внешен, он тверд, он отчетлив. Но о качествах работы, пытающейся описать и объяснить эту точность, судят лишь специалисты; нам это неизвестно, насколько они бывают точны, мы этого не проверим.
Другое дело наука неточная: тут мы, может, читать не станем, но кое-что как бы поймем и свое суждение наверняка иметь будем. Допустим, литературоведение…
Но как же мне согласиться, скажем, с тем, что сама литература не есть точный объект? Тем более та, с которой имеет дело наука, а не критика, то есть – великая? Почему же, стоя у подножия гения, ученый кажется карликом, а стоя на пороге природы – гигантом? Не менее самонадеянно постигать физические законы, чем законы гения… По-видимому, гений – природа.
Скажем так: литературоведению недоступен эксперимент. Изучая «Евгения Онегина», мы и не пытаемся своими силами создать подобие его строки. Что же получается? Мы изучаем то, чего не умеем, но, и изучив, не научимся… Однако эксперимент есть опыт, опыт есть удел каждого человека, а литература лишь человеком и занята. Это одна сторона, по которой человек, не испытавший на себе, что такое поэзия или проза для поэта или писателя, может-таки изучать их творчество. Между ученым и объектом тогда находится именно тот барьер непрямого отношения, что необходим науке. Эксперимент же – попытка воспроизвести частично природный процесс своими усилиями – не входит в практику литературоведения, применяется тем не менее не так уж и редко.
Кроме того, что научная проза – тоже проза и в ней наблюдается свое изящество и свои стилистические красоты, как правило, подтверждая именно научное качество, не исключена и попытка исследователей самим испытать на себе предмет изучения, выступая в качестве художника. На склоне дней маститый ученый завоевывает себе право выпустить книжку грамотных стихов, на протяжении жизни сопутствовавших его поклонению предмету изучения – великой поэзии. В XIX веке о литературе писали всё люди пишущие. Да и в нашем: Тынянов – великий ученый, так был просто замечательный прозаик; Шкловский прозу писал не хуже своей науки, да и науку свою писал тою же прозой…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
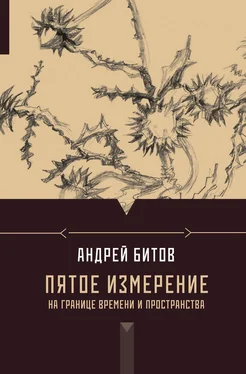

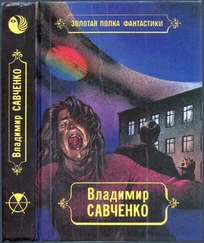



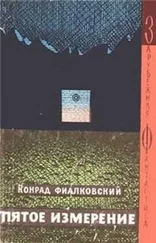
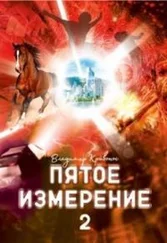
![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
