Да, это стихотворение сразу принесло Лермонтову славу – и сразу поставило его в положение гонимого. Что сам поэт прекрасно осознавал:
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; – настанет час кровавый,
И я паду; и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.
И на гауптвахте (спичкой, макая ее в вино и смазывая сажей, на промасленной бумаге из-под курицы, которую приносил ему денщик) он пишет уже совершенно лермонтовские стихи: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Узник», «Молитва».
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного…
То есть уже через месяц после гибели Пушкина оказывается, что Лермонтов резко свернул с пути ученичества – чтобы за оставшиеся ему четыре с половиной года пройти свой путь. Что это было? Устремление к одиночеству, отъединение себя от «и» и от «или». Индивидуализм, который тоже начинается на букву «и», окрашен цветом буквы «и». Но в «и» есть очень сильный посыл к развитию: тому, кого не устраивает это «и» и это «или», приходится что-то нарабатывать, как мысль, как идею, как то, что можешь сделать только ты один.
Василий Розанов в примечательной статье «Вечно печальная дуэль», посвященной столетию со дня рождения Лермонтова, заявляет, что никакого продолжения Пушкина в русской литературе не было, а вся она развивалась как продолжение преждевременно прерванного лермонтовского пути.
Едва ли – вся, но значительная ее часть – несомненно.
Если у Пушкина (а позднее у Мандельштама) – звук и смысл, то у Лермонтова (а позднее у Есенина) – напев и чувство. Если Пушкин достигает духовной свободы , то Лермонтову дано ощущение некой стихийной воли. Пушкин, который заявил однажды: «Поэзия… должна быть глуповата», – сам не обладал этим даром вдохновенной «глупости». Этим вольным дыханием, выражающимся в небрежности стиха. Совершенство – вот что подавляло его.
Не то у Лермонтова:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово…
Редактор журнала «Отечественные записки» А. А. Краевский заметил автору: «Как же можно сказать “из пламя и света”? Из пламени!» Лермонтов хотел было исправить строку: «…обмакнул перо и задумался». «Нет, постой, оно хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю… Уж очень хорошее стихотворение».
Сила слова, «рожденного из пламя и света», не столько в смысле (ибо его «значенье темно иль ничтожно») – сколько в звуке. Оно всегда – отражение внутреннего огня и потаенного света человеческой личности.
Недаром у Пушкина и Лермонтова предельно различно отношение к буре : Пушкин в «Медном всаднике» написал ее как катастрофу, а Лермонтов в «Парусе» просит бури , мечтая вырваться за пределы мира, напоенного гармонией, но ограниченного снизу «струей светлей лазури», а сверху – золотым лучом солнца.
Меня недавно поразило, что «Белеет парус одинокий…» (1832) и «Медный всадник» (1833) существовали в одном временнум пространстве – и не были друг другу известны. Я говорю не о желании их «познакомить», хотя еще одним краеугольным камнем лермонтоведения, наравне с проблемой влияния Пушкина на Лермонтова, является факт их личного незнакомства.
Так вот, Лермонтов и Пушкин знакомы не были, и если лермонтоведы еще спорят о том, читал ли Пушкин хоть строчку Лермонтова, – то, что Лермонтов тщательно штудировал Пушкина, можно утверждать с уверенностью.
Так, «Пророк» Лермонтова построен как сознательная антитеза «Пророку» пушкинскому: пушкинский ветхозаветный пророк подвергнут Лермонтовым жестокой вивисекции – и путем искусной операции по перемене не пола, но сути превращен в пророка эпохи Нового Завета. (Поразительно, но и первый, и второй, и третий (тютчевский) [11]«пророки» в русской литературе написаны тогда, когда каждому из их авторов исполнилось по двадцать семь…) [12]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
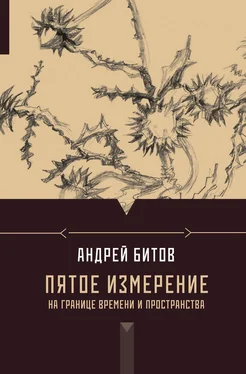

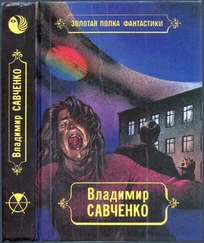



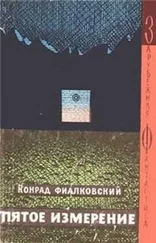
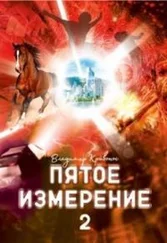
![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
