Так что самое время, если уже не поздно, спешить описать Петербург.
Вопрос о том, сам ли пишет Соломон Волков, следует поставить иначе: сам ли он не пишет?
Действительно, что он написал сам?
Петербург есть, Ахматова была, и Шостакович, и Баланчин, и Бродский есть…
Но и русский язык был до Даля, Ушакова, Фасмера.
И пирамиды стояли до Шампольона, как продолжают стоять после него.
И стояли бы они без него, если бы его не было?
Ведь это именно он не дал их доворовать.
И где без Шлимана Троя?
Один стоит в камне, другой растворился в звуке, третий испарился в танце.
Это они ничего не написали сами.
Слишком популярной стала сентенция Булгакова, что «рукописи не горят».
Как только была опубликована. Словно она одна и не сгорела.
Не заговаривал ли автор свой роман этой колдовскою фразой? Не уговаривал ли?
Не умолял ли… но кого ?
Никого рядом не было, кроме вдовы.
Где и как не сгорели «Воронежские тетради»?
О, вдовы!
Софья Андреевна, Анна Григорьевна…
Елена Сергеевна, Мария Александровна…
Надежда Яковлевна. Вот поворот.
Но ведь и Анна Андреевна – вдова!
Сама культура вдовствовала.
Мне уже приходилось писать о «Показаниях» Шостаковича в том смысле, что он почему-то именно Соломону Волкову их дал. И Баланчин никогда ни перед кем не «кололся»… В чем дело? Что, Соломон умнее, красивее, честнее всех, что ли? Один талант, возможно, есть: умение слушать. Более редкий, чем говорить и писать. И другой: рукопись у него не сгорит. Ему можно довериться, как вдове. Господи, как одиноки города и люди!
3 января, Переделкино
Ужель не хочет человек
Понять, что он из капли создан,
С Творцом торгуясь весь свой век,
Забыв, чьи есть вода и воздух?
Он предлагает притчи нам,
Как будто послан мимо цели, —
Кто может жизнь сухим костям
Вернуть, когда они истлели?
Создатель Неба! Ты один
Исполнен необъятным знаньем.
Ты – моей воле Господин,
И Ты – узда моим желаньям.
Иначе – только взблеск и вскрик
И помыслы мои иссякли…
Все это длилось сущий миг,
И бритва воплотилась в капле.
15 января, в самолете Москва – Берлин
Сталин – это Ленин, данный нам в ощущении.
Из Гегеля
Мне снится сон про вурдалаков:
Они – мои жена и дочь…
Сынок мой с ними одинаков —
Все перегрызлись в эту ночь.
Я осеняю их знаменьем
Неверной левою рукой…
Топор, как в масло, входит в темя —
И нету рядом отца Меня,
Чтоб отслужить за упокой.
Родителей… и иже с ними
(Кого любил, кого терзал…)
Уж «к легиону близко имя»,
«Как Сади некогда сказал»,
Или Христос, иль тот же Пушкин,
Подсчитывая песнь кукушки.
Перечитывая «Разгром» Александра Фадеева:
Ночь, водка… Червивеет небо и вера…
Как смерти личинки, шевелятся звезды.
И пишет он автопортрет револьвером,
Граненым мазком рассекая воздух.
И осыпается свет последний
От фейерверка Двадцатого Съезда.
Тусуются обок Фюрер и Ленин,
Льют памятники кровавые слезы.
И встреча последняя. Мы выпиваем
в трансильванском дворце
невиннейшего из вурдалаков…
Обсуждаем возможность
следующего симпозиума на тему
«Оклеветанный Дракула».
Много смеемся.
Я завидую твоей сигаре и блузе
и блеску глаз девушек,
поедающих тебя.
Ты спрашиваешь, о чем я думаю,
а я не думаю, а говорю:
– О соотношении живых и мертвых.
– Кес ке се?
– Кого больше? и что будет,
когда наступит равновесие
тех и других? —
Ты заинтересовался и повторял всем:
– Представляете, о чем он думает,
этот русский?! —
(И здесь, на этой строке,
не иначе как в твою честь,
я выронил стакан с водкой
из-за неверности все той же левой руки —
последствие скорее пареза, чем пьянства…
Я смотрел Ей в глаза за год до тебя —
но это ты – умер, а не я…)
«С утра выпил – весь день свободен» —
последняя советская пословица,
которая тебе так понравилась…
Это ты налил мне первую водку
и отговорил от второй.
Ты стоишь на крыле «Люфтганзы»,
на которой я лечу к мертвому тебе…
Пусть эта вторая, опрокинутая тобой, —
твоя!
Вот уж не думал,
как мы выпьем еще раз вдвоем.
Так скажи мне теперь,
кого больше,
живых или мертвых?
и не стало ли уже поровну?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
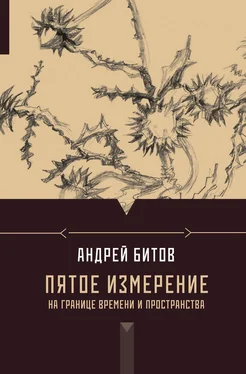

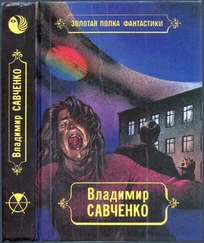





![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
