Когда две с половиной тысячи лет назад мудреца Анахарсиса спросили, кого больше – живых или мертвых, он переспросил: «А кем считать плывущих?» (Наверно, сказалась его водобоязнь – почти половина дошедших до нас его высказываний содержит эту корабельно-смертельную тему – достойно увенчанную тем, что это именно он изобрел якорь…)
Так кого же больше, живых или мертвых?.. Вообще-то мы, через две с половиной, уже знаем, кого больше. Ну а если не так тотально, чтобы хоть несколько облегчить задачи, поставленные перед нами Федоровым, так сказать, – «сегодня» кого больше?
Сколько уехало и сколько ушло? сколько уехало и сколько осталось? сколько умерло и сколько выжило?.. Мартиролог 70-х не менее впечатляющ, чем тот список, что был голосом друга провозглашен по «Загробному Голосу» в качестве «всей» уехавшей русской литературы… И то и другое случилось за одно десятилетие!
Высылка Бродского и Солженицына ничем не может быть уравновешена. Но именно тогда не стало и Твардовского, не стало Рубцова, Вампилова и Шукшина – трех бесспорных надежд русской литературы. С отъезда Максимова писательская убыль стала приобретать почти систему: один отъезд – одна смерть. И попробуйте сказать, что они неравнозначны… Можно выстроить два жутких столбика бок о бок: уехали – умерли, уточняя даты и взвешивая репутации. Не хочется этого бухгалтерского столбика… Но разве не равновелики могут оказаться Некрасов и Домбровский, Гинзбург и Копелев, Коржавин и Глазков, Шпаликов и Горенштейн, Аксенов и Трифонов, Войнович и Казаков?.. Лишь Высоцкий и Галич – оба мертвы. Ах, я перечислил не всех? Добавьте или вычеркните. Но уже сами.
Да и как построишь настоящих писателей в детсадовские пары?
Умер Бахтин (дальше Саранска не выезжавший). Умер Набоков (ближе Швейцарии не возвращавшийся). Умерла Надежда Мандельштам.
Потери за 70-е годы и впрямь могут привести к мысли, что литературы, какая была и могла быть ЗДЕСЬ, не стало. Пускай не утешает нас то небольшое количество имен, что составило русской литературе XIX века славу более чем мировую. Ибо если и останется от всех нас в последующих поколениях один человек, то это никак не означает, что остальных могло не быть. Не было бы и этого, единственного и одного. Русская литература не может состоять из одних великих писателей. И, может, это не Пушкин заслонил Баратынского или Вяземского, а они его – высветили. Не могут вымереть все хорошие, оставив в живых одного великого. И мамонт вывелся не от ущербности или неполноценности, а оттого, что не нашел стада…
Так же тихо, как Казакова, не стало в этом году Марии Петровых и Варлама Шаламова. Как они молчали!
Как считать умерших ЗДЕСЬ? Можно ли за счет доброй половины этих смертей заявлять, что ЗДЕСЬ литературы УЖЕ не осталось?
Как считать плывущих?..
Воспоминания о некрасовской анкете
С НЕКРАСОВЫМ и Чуковским я как-то одновременно не был знаком.
С Корнеем Ивановичем, пожалуй, были возможности. Но я обиделся. По глупости, надо полагать. Жалею страшно. Вот, однако, как это было.
Ноябрь 1962-го – был великий месяц надежд. Чуковскому дали Ленинскую премию (за «Мастерство Некрасова»), «Новый мир» опубликовал Солженицына. Но это еще что – у меня, месяца через три, должен был выйти «Большой шар», первая книжка!
Однако свертывались в трубочку ранние 60-е: «Один день Ивана Денисовича» оказался всего лишь одним днем (шутка тех дней…), тут же совпавшим с пресловутым «посещением выставки», повлекшим за собой… Книжица моя легла на прилавок ровно 8 марта 63-го года, как по заказу, в день открытия идеологического пленума ЦК, и явилась настоящим подарком для Обкома, устремившегося тут же искоренять «абстракционизм» на топкой ленинградской почве. Положительный прием, заранее уготованный моей книжке в конце 62-го, был прикрыт. Оставалась одна надежда, как и у всех, – один свет в окошке – «Новый мир», и слух о намерении Чуковского написать обо мне. Ему она понравилась! Это ли был не праздник… Чуковский к тому времени из автора «Мойдодыра» вырос для меня в соседа Пастернака, на даче которого работал сам Исаич… слух этот окрылял меня. В Комарове меня удостоила дружеских бесед Лидия Корнеевна, я читал потрепанную рукопись повести «Софья Петровна» – и, комсомолец призыва 1949 года, ощущал под ногою первую кочку для первого сознательного шага. Но рецензия в «Новом мире» все не появлялась, и ровно через год, с масштабностью и точностью московского цинизма, появилась заметка пресловутого Ермилова об итогах года после пленума: «в результате» его, оказалось, появилось наконец что-то свежее и новое – первые книги Шукшина и Битова… Я поспешил воспользоваться этим объявлением, чтобы двинуть вторую книгу, радуясь уклюжести врага, тут-то до меня и дошел второй слух, что Корней Иванович отказался от намерения писать обо мне в связи со статьей Ермилова. В ту пору я не придал такого уж значения, а все равно детское чувство «несправедливости» (а она всегда от тех только, от кого не ждешь) заныло во мне: чем проза-то моя виновата? разве она стала хуже? Я еще не слышал о «либеральном терроре». Теперь я могу, конечно, себе сказать (через 20 лет): книжка, конечно, не стала ни лучше, ни хуже, но ведь похвалу Ермилова я не обсуждал, а пользовался так или иначе ею…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
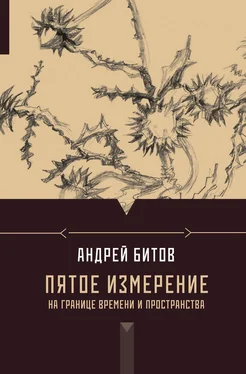

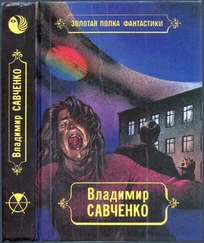



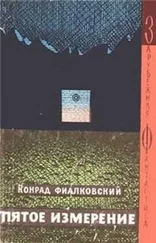
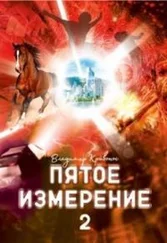
![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
