1 ...5 6 7 9 10 11 ...153 3. Памятник
Конец истории о том, как вдохновенье
Есть способ личности избегнуть раздвоенья.
…Заложат сани, кучер будет пьян.
Навстречу поп – еще в Судьбе изъян.
Тут заяц выбежит, и – никаких сомнений! —
Михайловское – лучше поселений [13].
Он, как по нотам, повернет коня…
Так вот кто жил, Судьбе не изменя!
И бесы ничего поделать не могли.
(Я вновь не посетил тот уголок земли…)
Пустынный сеятель! Придет еще пора!
(Которой так давно прийти пора.)
Отыщут перекрестье тех дорог,
Где Заяц поспешил к тебе в сто ног,
Воздвигнут обелиск…
О, как это красиво!
КОСОМУ – БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ. [14]
III. Заяц и мировая дорога
Ученый вариант 1
Знаменитая история о том, как Пушкин совсем было собрался из Михайловского в Петербург накануне декабрьского восстания, но повернул обратно, потому что ему перебежал дорогу заяц, правомерно существует в виде анекдота, не обременяя биографию поэта. Исследователя занимает больше тот факт, что, повернув, поэт в присест написал «Графа Нулина». Между тем следопыт, распутывая след этого осторожного басенного «зверка», неизбежно обнаружит, что он непрерывен, что в конце его «обязательно окажется заяц» (Ахмадулина). Обнаружит хотя бы то, что «Граф Нулин» начинается пышными сборами на охоту и заканчивается затравленным русаком.
Есть вещи, которые про Пушкина рассказывали, есть, которые он сам рассказывал. Здесь как раз неоспоримо свидетельство самого Пушкина. Никому, кроме него, известно не было, что заяц перебежал дорогу. Разве что самому зайцу. Пушкин рассказывал эту историю неоднократно и разным лицам. С.А. Соболевский приводит и конечные слова его: «А вот каковы были бы последствия моей поездки. Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом: вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»
Что значит «с вами, мои милые»? Не прямое ли и к нам обращение? То есть мы бы теперь не читали всего писанного им за одиннадцать последующих лет. Невозможная эта перспектива отчетливо (и письменно на этот раз, а не устно) обрисована самим Пушкиным, уже за год до восстания прозревавшим ее… «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: „Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи“. Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством…» Разговор этот, столь счастливо начавшийся, кончается, однако, плохо: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму „Ермак“ или „Кочум“ разнообразным размером с рифмами».
Как бы ни верить в гений Пушкина, наличие «Полтавы» и «Медного всадника» вместо этих сибирских поэм для нас предпочтительно.
И через пять почти лет, в Болдинскую осень 30-го года, Пушкин находит время набросать для потомства (для нас) заметку о «Графе Нулине», соединяющем обе возможности (Михайловское с Сибирью): «Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».
Пародировать историю… Заяц, оставшись в канве «Графа Нулина», в заметке не упомянут.
О суевериях Пушкина много анекдотов. Между тем чуткость Пушкина к приметам – не просто суеверие. В поэте проглядывает историк, в историке – поэт. Поэт, осознающий свое предназначение и пытающийся подчинить судьбу исполнению его, и историк, анализирующий неизбежность событий во времени и пытающийся предвосхитить их, использует примету как инструмент для измерения будущего, обостряя в себе некое шестое чувство (предначертанность). Весь 25-й год Пушкин как бы прислушивается к гулу приближающейся Истории.
Конечно, Пушкину до конца жизни не давало покоя то обстоятельство, что он не разделил судьбу своих друзей-декабристов. Он думает о друзьях в Сибири, ищет могилы на Васильевском острове (Ахматова). Но обилие примет, повернувших его с пути на площадь, бросается в глаза. Со слов брата поэта, это был один лишь поп, почти на самом выезде из Михайловского. Со слов Осиповых, это уже три зайца и поп, да еще и совет кучера. В пересказе Соболевского это и белая горячка слуги, и два зайца, и поп. Вяземский же, вполне подтверждающий рассказ Соболевского, несколько брюзгливо отмечает, что «сколько помнится, двух зайцев не было, а только один». В этом помножении зайцев любопытно отметить и некоторую путаницу во времени и обстоятельствах их появления на пушкинской дороге, вполне объяснимых и неточностью свидетельской памяти. По рассказу тригорцев, Пушкин узнал о восстании, находясь у них, от их слуги и «страшно побледнел». Стал он в тот вечер «очень скучен» и «говорил кое-что о существовании тайного общества». И лишь на другой день возникает история с его отъездом и зайцами. По словам же Соболевского, излагающего «рассказ, не раз слышанный мною при посторонних лицах», Пушкин прослышал о волнениях еще 10 декабря и, надумав ехать в Петербург, отправился в Тригорское прощаться с соседками – тут-то ему первый заяц и перебежал дорогу, второй – на обратном пути, а там уже и поп окончательно останавливает его. Так что выходит, что Пушкин в сторону Петербурга и от собственного подъезда не отъезжал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
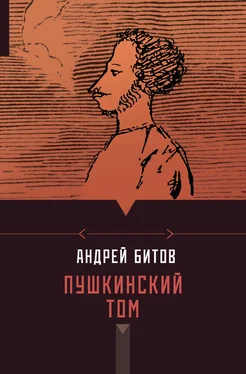


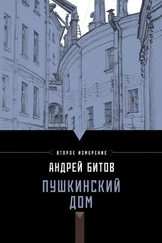

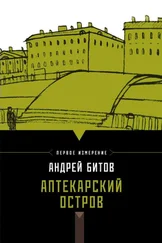



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)