Волгин И. Завещание Достоевского // Вопросы литературы. 1980, № 6.
Хотя правильно называть это стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», я буду применять прижившееся в обиходе; оно короче.
Эпиграф приписан после написания стихотворения – Пушкин счел необходимым напомнить читателю…
Соотношение оживающей скульптуры и окаменевшей души в поэзии Пушкина блестяще излагает Ю.М. Лотман.
Первоначально «бессмертной». Как неслучайна эта замена! Более глубокое значение слова «заветный» (завещанность, тайность) должно было отослать наше восприятие назад, к «нерукотворности» памятника, связав дар и жизнь материальной аллегоричностью лиры.
Первоначально «меня»… Эти замены на более «скромные» слова естественны в строфе в связи с ее «очеловечиванием» после строфы первой. И единство стиля восстанавливается…
Язык ( церк .) – чужой народ, иноверцы, иноплеменники… (См. словарь Даля.)
В развитие темы «ожившая статуя – окаменевшая душа» можно наметить звено «актер», как бы помещающееся между. Актер – отчасти поэт, отчасти ожившая статуя… Отдавши творчеству душу, поэт не то мертвеет, не то замирает. (Вся гамма переходов «маска – актер – поэт – камень» намечена в образе импровизатора в «Египетских ночах», 1835.) В этой связи любопытно рассмотреть и заметку Пушкина о «Железной Маске». Помещаясь в одном ряду со статьями «Вольтер» и «Последний из свойственников…», как бы нам ни хотелось образовать «трилогию», заметка эта не может в той же мере выступить свидетелем по делу Пушкина. Это в чистом виде реферат (из того же Вольтера), но реферат этот усугубляет пушкинский ряд оживших кумиров и окаменевших душ еще одним жутким вариантом: лицо, которого никто не видит, живой человек, закованный в маску.
Ср.: «Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга, где обитают поганые тоймичи, и за Дышащее море; от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы – то всё с помощью Божьей покорено было христианским народом…» («Слово о погибели Русской земли», XIII век).
Блок, составляя «своего» Пушкина, записывает в «Дневнике» 21 января 1921 г.: «1819 <���…> „Деревня“ <���…> Александр I – „bons sentiments“, a через 17 лет у Пушкина – „чувства добрые“» ( Блок А. Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л., 1963. – Т. 7. – С. 399).
Из слов этих строк XXXVII строфы состоит знаменитая фраза Достоевского.
Хотя Пушкину, по его собственному признанию, не было времени читать по-латыни после лицея, нельзя не иметь в виду (хотя и трудно проанализировать и учесть) обширное знание языков (в том числе и мышление на другом языке – французском) – здесь, безусловно, расширение и обогащение русских грамматических форм. Например, в попытке передать русским глаголом временные оттенки, свойственные другим языкам.
Отношение Пушкина к цензуре как таковой и конкретные отношения его с цензурой – принципиально разные вещи. Пушкин 30-х годов наследовал в восприятии цензуры взгляды H.M. Карамзина, признавая ее как необходимое государственное учреждение. Но функции цензуры, как он их понимал и как они осуществлялись практически, были источником постоянного переживания; теоретические взгляды расходились с личным опытом.
«Челобитная. Башилову» – стихотворение Д. Давыдова.
Речь о «мелких стихотворениях, принадлежащих автору в Мюнхене» (Тютчев Ф.И.): XVI – «Не то, что мните вы, природа», XV– «Сон на море», XVII – ?…
Пушкинские слова из не дошедшего до нас письма. Хитрость Пушкина, которую отводит цензор, однако, имела результат: точки были проставлены.
Автор просит извинения за некоторую текстологическую и графическую вольность при попытке передать черновик средствами набора: так «слышнее» правка.
Как это соотносится с вариантами незадолго до этого письма писанного стихотворения «(Из Пиндемонти)»: «Или несет… ценсурные вериги // Или стеснительной опутана ценсурой // Иль вдохновенный ум ценсурой – // Морочит олухов иль грозная (?) ценсура // Морочит олухов, иль важная (?) ценсура»… (III2, 1030–1031).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
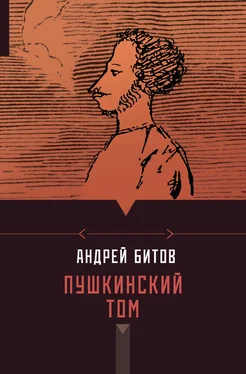


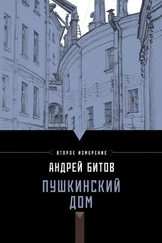

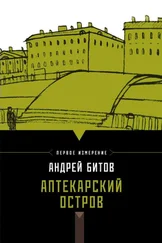



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)