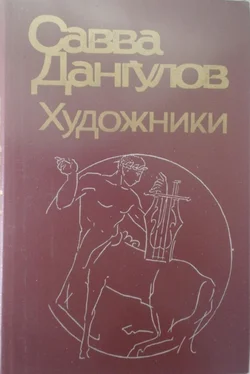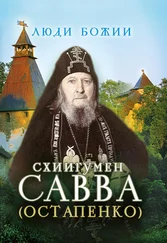Я рассказывал, что работа над специальным номером закончена. В сентябрьской книжке, которую журнал отдает китайской литературе, предполагается опубликовать новый цикл стихов Го Можо и фрагмент новой пьесы Лао Шэ, начало нового романа Сюй Хуанчжуна «Мы сеем любовь» и неизвестный нашему читателю рассказ Цюй Цюбо «Нескончаемые противоречия». Разумеется, журнал расскажет читателю о китайском театре, кино, живописи, воспроизведет поэтическую классику в переводе Л. 3. Эйдлина, напечатает повесть неизвестного автора XIV века «Торговец маслом и фея цветов» в переводе другого нашего видного китаиста. А. А. Тишкова, и одарит своих читателей истинной сенсацией, поместив пятьдесят ответов на анкету журнала видных деятелей китайской словесности, театра, кино, живописи, среди которых такие имена, как Мэй Ланьфань, Лао Шэ, Чжоу Либо, и другие. И попросил Мао Дуня предпослать номеру свою статью, посвященную китайской литературе, ее прошлому, настоящему, будущему. Немало смутившись, Мао Дунь оглядел присутствующих, будто испрашивая у них согласия, и своим тишайшим голосом пообещал такую статью написать, не лишив себя соблазна заглянуть в свою записную книжку и тут же уточнив, что сможет выполнить свое обещание не раньше июля, — забегая вперед, могу сказать, что в конце июля статья Мао Дуня была в редакции.
Осталось подступиться к главной теме беседы — Лу Синь.
Точно чувствуя, в какой мере эта часть нашего диалога лична, гости Мао Дуня оставили нас вдвоем — а между тем сумерки заполонили комнату, хозяин зажег настольную лампу, пододвинув ее к середине журнального столика. Мне показалось, что огонь настольной лампы, обратив свет к круглой столовине журнального столика, сделал видимыми немалые стекла окон, подсвеченные с улицы электричеством, — казалось, там моросил дождь, а может, дождь со снегом — в феврале в Пекине может быть и такое.
Тем уютнее и, может быть, заповеднее было за столиком, у которого мы заняли свои места. Мне привиделось: то, что должен сейчас сказать Мао Дунь, должно быть очень лично — так, собственно, и оказалось.
— Не находите ли вы, что личность творческая, возникая, должна опереться на другую личность, не менее творческую? — вдруг спросил он. — У колыбели поэта должен быть поэт, можно сказать даже больше: поэт родит поэта...
— Быть может, уместно спросить: кто он, этот поэт, — учитель, старший товарищ, старец, мудрый старец? — спросил я.
Он задумался: по всему, мой вопрос был далек от истины.
— Нет, не учитель, не старший товарищ и, конечно, не мудрый старец... — ответил он.
— Тогда кто? — осторожно настоял я — в моем вопросе была прямолинейность, но моя страсть приблизиться к истине была слишком велика, и я спросил, отдав себя прямоте, быть может откровенной прямоте. — Кто?..
— Мать... — сказал Мао Дунь. — Мать... — повторил он убежденно и добавил: — Не думаете ли вы, что если есть ответ, который надо отыскать, постигая художника, то его надо искать, этот ответ, прежде всего в том, что мы можем найти в душе матери, в тайниках этой души... В том вечном, что она не успела унести с собой, что она оставила в памяти людей». Поэтому, отвечая на ваш вопрос о Лу Сине, я хочу вам сказать: поезжайте в Шаосин, а может, еще дальше, в ту деревню, откуда происходит мать писателя, и узнайте все, что можете узнать о ней. Тут как раз и будут все ответы на вопрос о том, что такое Лу Синь...
Мао Дунь улыбнулся — не иначе, в сознании воспряло что-то такое, что напомнило ему живого Лу Синя, — только ему, моему собеседнику, ведомо, что явилось толчком к воспоминанию... И вот, как это было с Лао Шэ, память Мао Дуня обращается к жизни Лу Синя, к живой панораме его жизни, к эпизодам, из которых эта панорама соткана... Мао Дунь хорошо говорил о матери Лу Синя.
«Твоя мать желтая, и сам ты желтый» — это сказал Синю бродяга-даос, сказал, ткнул своим дырявым башмаком камень, лежащий подле, и ушел.
«Мама, почему он назвал нас желтыми?» — «Мальчик мой, надо же кому-то быть и желтыми...»
Да, мама действительно родом из деревни.
Мама все умеет делать сама. И печь, и готовить, и шить, и вышивать. Такую вторую вышивальщицу не сыскать во всей провинции Чжэцзян. Вот только читать мама действительно не умеет, читать и писать не умеет и остро переживает это. Но переживает втайне. Никто не видел ее слез, никто не слышал ее горестных вздохов. Наоборот, такое впечатление, что она переворошила всю библиотеку, все прочла, все познала. Ведь столько сказок, сколько знает она, никто не знает. А может быть, все это рассказывает маме отец, в те долгие зимние ночи, когда затихают уличные шумы, во всем доме гаснет свет и слышно лишь, как ветер ворошит сухие листья во дворе, да шелестит комочком бумаги мышь, тщетно пытаясь его развернуть. Но, быть может, в эти долгие вечера мама постигает тайны грамоты и об этом, кроме отца, никто не знает. Как-то Синь заметил на ее пальцах тушь — так можно вымазать пальцы, если в руке была кисть. Позже, роясь в мамином столике, он увидел там тетрадку с крупно начертанными иероглифами. Почерк отца Синь знает, хотя и не умеет прочесть: в этом почерке изящество и сила, а здесь все начертано так неуверенно и некрасиво, будто писал это кто-то из сверстников Синя. Да, мама, наверно, учится, втайне учится, схоронив слабые свои опыты от чужого взгляда. Чужой взгляд может быть злым.
Читать дальше