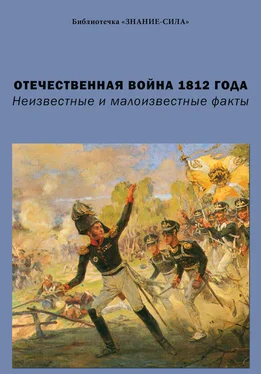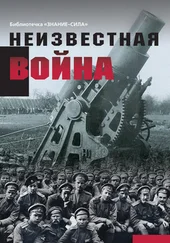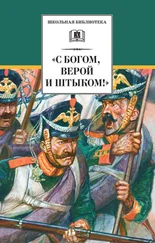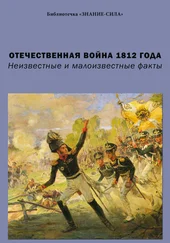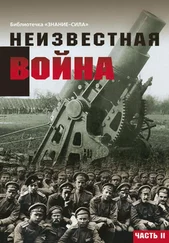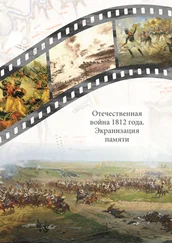Пожар Москвы – апогей, невозможная жертва и трагедия. Но ведь до этого был Смоленск, были деревни, по которым шли завоеватели, и земля горела у них под ногами. А столица… Москва была второй столицей, так ее и воспринимали. Сдача столицы врагу – событие чрезвычайное. Оно изживается в истории долго, мучительно и вряд ли до конца. В 60-е годы уже нашего времени во Франции очень модной была песня о том, как «мсье» встает, когда входит дама, но без боя сдает Париж, когда приходят фашисты. «Жизнь! Тебя назвать бы дрянью, тебя зовут «мадам». Так переживается унижение и национальный позор.
Русским оставить пепелище оказалось легче, чем живой прекрасный город. Даже не легче – возможней. Пепелище оставить было можно, а живой город – нельзя.
Потому что столица олицетворяет страну, является тем лицом с не общим выраженьем, по которому ее узнают. Все лучшее, достойное величия, гордости и красоты сосредотачивается здесь. Здесь все это пестуется, взращивается, преумножается и процветает. Вся страна, весь народ трудится, создавая то, что станет лучше их самих, чтобы потом тянуться к этому и дорастать до него.
Как можно это отдать врагу? Только в виде пепла. Только тогда все останется неотданным. И значит – ничего не сдали. Такой вот менталитет. Этого-то не знал, не понял, даже не мог представить себе Наполеон. И проиграл.
Можно напомнить, что спустя 129 лет, в октябре 1941 года, когда враг стоял в часе езды от центра Москвы, все важнейшие транспортные магистрали, все крупнейшие культурные, государственные и промышленные предприятия столицы были заминированы.
Они должны были взлететь на воздух по приказу главнокомандующего, когда немцы войдут в Москву…
Инициатива военных действий против России принадлежала Наполеону – он слишком долго находился в убеждении, что русские первыми перейдут границу.
В результате 10 (22) июня 1812 года посол французской империи генерал Ж. А. Лористон вручил в С.-Петербурге председателю Государственного совета и Комитета министров графу Н. И. Салтыкову ноту с объявлением войны.
Формальным поводом для ее объявления стал демарш русского посла в Париже князя А. Б. Куракина о выдаче паспортов для отъезда на родину.
После личной рекогносцировки Наполеоном местности 12 (24) июня войска Великой армии, соорудив три моста, начали переправу через Неман у деревни Понемунь – война началась!
Ш. М. Талейран позднее справедливо назвал этот день «началом конца». Однако таких провидцев, как он, было немного. Французы, прежде всего солдаты и, конечно, генералитет, считали Наполеона непобедимым и абсолютно верили в его победу.
В России абсолютно верили, что Наполеон будет изгнан и повержен. На чем основывались эти убеждения? Какие стратегия и тактика лежали в основе тех действий, что должны были привести к их победе?
Превентивная война?
Виктор Безотосный
Когда говорят о начале кампании 1812 года, часто возникает вопрос о превентивном характере войны Наполеона против России. Мол, французский император очень не хотел этой войны, но вынужден был первым перейти границу в силу существования реальной русской угрозы. Сохранилось достаточно много высказываний самого французского полководца на этот счет. Например, в мае 1812 года Наполеон в письме к русскому послу во Франции князю А. Б. Куракину, помимо многих обвинений и угроз в адрес Александра I и России, поместил следующую фразу: «мне нужен покой, я не хочу войны; благо моих народов требует моих забот, поэтому я жажду спокойствия». Ранее он также прямо говорил Куракину: «Я не хочу воевать с вами, но вы сами вызываете меня». Графиня С. Шуазель-Гуфье в своих воспоминаниях «процитировала» следующие слова Наполеона, сказанные якобы им в Вильно в начале кампании 1812 года: «Я с сожалением начал эту войну, благодаря которой прольется много крови; император Александр, не соблюдавший условий Тильзитского трактата, принудил меня начать войну».
При желании таких высказываний можно найти еще больше. Попробуем разобраться в этом моменте подробнее. Необходимо заметить, что разведки сторон очень внимательно следили за передвижениями и концентрацией войск своего будущего противника. Например, сотрудник русской военной разведки П. X. Граббе, видевший все своими глазами, упоминая о концентрации сил Наполеона («Все дороги Германии покрылись войсками со всех концов Европы к границам России направленными»), сделал заключение в своих воспоминаниях: «Не было нужды в тайне. Напротив, лучшим средством принудить Россию без борьбы покориться всем уничижительным условиям поработительного союза с Наполеоном, казалось показать ей это неслыханное ополчение против нее всей Европы». При тогдашнем несовершенстве средств связи при передаче разведданных, сведения поступали с некоторым опозданием, но тем не менее и Наполеон, и русское командование приблизительно представляли себе общую ситуацию с войсками противника на тот или иной момент. Три русские армии к началу войны на западной границе имели в своих рядах 200–220 тысяч человек. У Наполеона только в первом эшелоне было сосредоточено 450 тысяч, а во втором – более 150 тысяч человек. Какой военный специалист поверит, что такие силы были собраны французским полководцем для обороны? Такая мощнейшая (беспрецедентная по тем временам) группировка сил не могла быть собрана за несколько дней, ее создание требовало колоссальных организационных и финансовых издержек, и она явно предназначалась для ведения активных наступательных действий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу