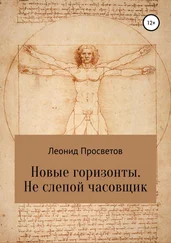Допустим, для пути 1, ведущего к образованию нужного соединения Г, требуется последовательное действие ферментов А1, Б1 и В1, а для пути 2, который ведет к достижению того же желанного результата, необходимы ферменты А2, Б2 и В2. Каждый фермент создается особым геном. Таким образом, сборочный конвейер для пути 1 возникнет у вида только в том случае, если гены, кодирующие ферменты А1, Б1 и В1, будут ко эволюционировать все вместе. А для возникновения альтернативного конвейера, осуществляющего путь 2, виду понадобится, чтобы вместе эволюционировали гены, кодирующие А2, Б2 и В2. Выбор между этими двумя коэволюциями не делается заранее и осознанно. Просто-напросто каждый ген отбирается на основании своей совместимости с другими генами, которые уже оказались преобладающими в популяции . Если так вышло, что популяция уже наводнена генами Б1 и В1, это создает благоприятные условия для того, чтобы отбор отдавал предпочтение гену А1, а не гену А2. И наоборот, если популяция уже наводнена генами Б2 и В2, это создает необходимую обстановку для того, чтобы гену А2, а не А1 благоприятствовал естественный отбор.
В реальности все несколько сложнее, но основную мысль, я думаю, вы ухватили: одна из важнейших характеристик благоприятного или неблагоприятного “климата” для гена — это те другие гены, которые уже являются многочисленными в популяции и потому могут с большой вероятностью оказаться с ним внутри одного организма. А поскольку то же самое, очевидно, верно и для любого из этих “других” генов, значит, мы будем наблюдать, как команды генов эволюционируют в направлении совместного решения проблем. Сами по себе гены не эволюционируют: они либо выживают, либо не выживают в генофонде, и все. Эволюционирует только их “команда”. Другие команды могли бы справляться с теми же задачами не хуже, а то и лучше. Но, как только одна из команд начинает преобладать в генофонде вида, она тем самым автоматически получает преимущество. Команде, оказавшейся в меньшинстве, будет непросто переломить ситуацию, даже если в конечном итоге эта команда оказалась бы более эффективной. Команда, оказавшаяся в большинстве, автоматически приобретает устойчивость к вытеснению, просто в силу того, что она в большинстве. Отсюда не следует, что эта команда теперь никогда не будет смещена. Тогда эволюция забуксовала бы. Но это, несомненно, говорит о том, что определенная инерция тут неизбежна.
Очевидно, что рассуждения такого рода применимы не только к биохимии. Ровно то же самое можно было бы сказать и по поводу группировок взаимно совместимых генов, формирующих различные части глаз, ушей, носов, ходильных ног и все сотрудничающие друг с другом органы животного. Для генов, делающих зубы подходящими для пережевывания мяса, благоприятным будет тот “климат”, в котором преобладают гены, делающие кишечник приспособленным для переваривания мясной пищи. И соответственно, генам, делающим зубы подходящими для перетирания растительной пищи, отбор будет больше благоприятствовать там, где преобладают гены, делающие кишечник пригодным для ее переваривания. В обоих случаях верно и обратное. Итак, вся команда “плотоядных” генов имеет обыкновение эволюционировать как единое целое. То же самое касается и команды “травоядных” генов. Действительно, в каком-то смысле можно сказать, что большинство работающих генов организма сотрудничают друг с другом, будто настоящая команда. Связано это с тем, что каждый ген (точнее, его предковые копии) составлял в течение всего эволюционного времени часть той среды, в которой все остальные гены подвергались действию естественного отбора. Если мы зададимся вопросом, почему предки львов перешли на мясную диету, а предки антилоп — на вегетарианскую, то ответ вполне может быть таким, что изначально это было случайностью. Случайностью в том смысле, что предки львов могли оказаться теми, кто перейдет к травоядному образу жизни, а предки антилоп — теми, кто перейдет к хищничеству. Но, как только в ряду поколений начинает сколачиваться команда генов для обработки мяса, а не травы, этот процесс становится необратимым и подталкивает сам себя. А если в другом ряду поколений начинает сколачиваться команда генов для переработки растительной пищи, то и этот процесс становится необратимым и подталкивает сам себя, но только в другом направлении.
Одним из самых важных процессов, происходивших на ранних этапах эволюции, было увеличение числа генов, участвующих в подобных совместных предприятиях. Например, у бактерий намного меньше генов, чем у растений и у животных. Такое возрастание их количества могло осуществляться благодаря различным механизмам дупликации генов. Давайте вспомним о том, что ген — это всего лишь последовательность кодирующих символов, словно файл на жестком диске компьютера. Гены могут быть скопированы на различные участки хромосомы, точно так же как файлы — на разные участки диска. На жестком диске моего компьютера, содержащем и эту главу, находится в настоящий момент, формально говоря, всего три файла. Под “формально” я имею в виду то, что операционная система компьютера сообщает мне, что файлов всего три. Я могу попросить ее прочесть один из них, и тогда она выдаст мне линейную последовательность букв, в том числе и те буквы, что вы сейчас перед собой видите. Казалось бы, все аккуратно и упорядоченно. В действительности же текст расположен на диске как угодно, но только не упорядоченно и не аккуратно. Вы убедитесь в этом, если отбросите строгую дисциплину, которую вам навязывает операционная система вашего компьютера, и самостоятельно напишете программы, позволяющие расшифровать, что же на самом деле записано в каждом из блоков памяти диска. Оказывается, фрагменты всех трех моих файлов беспорядочно разбросаны, перемешаны друг с другом и с фрагментами старых, неиспользуемых файлов, которые я давным-давно стер и про которые уже успел забыть. Любой конкретный фрагмент может быть обнаружен — как полностью, в одном и том же виде, так и с незначительными отличиями — в полудюжине самых разных мест на диске.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
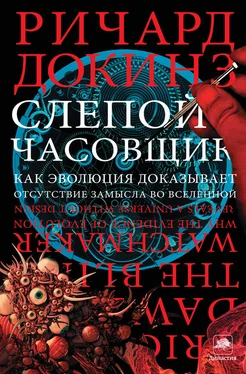








![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)