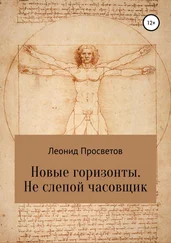Когда этот “разбавленный” звук сталкивается с каким-либо объектом, например с мошкой, он отскакивает от нее рикошетом. Этот отраженный звук, в свою очередь, тоже идет увеличивающимся сферическим фронтом. По тем же причинам, что и в случае с исходным звуком, он ослабевает пропорционально квадрату расстояния от мошки. Когда сигнал в виде эха возвращается к летучей мыши, он ослаблен пропорционально не расстоянию от нее до мошки и даже не квадрату этого расстояния, а скорее квадрату квадрата, четвертой степени. Иными словами, он очень, очень тихий. Эту проблему можно отчасти решить, если направлять звук при помощи некоего подобия мегафона, но для этого летучая мышь уже должна знать направление, в котором находится ее мишень. Как бы то ни было, если летучей мыши требуется получать хоть сколько-нибудь заметное эхо от удаленных объектов, то ее исходный писк должен, несомненно, быть очень громким, а ухо — инструмент, который улавливает эхо, — высокочувствительным к очень тихим звукам. Как я уже упоминал, летучие мыши, в самом деле зачастую вопят как резаные, обладая при этом тончайшим слухом.
И тут возникает затруднение, способное обескуражить инженера, который взялся бы за разработку машины, похожей на летучую мышь. Раз микрофон, или ухо, обладает такой высокой чувствительностью, значит, ему грозит нешуточная опасность быть серьезно поврежденным своими же оглушительно громкими исходящими сигналами. Бесполезно бороться с этой проблемой, уменьшая силу звука, — тогда эхо будет слишком слабым, чтобы его можно было уловить. А против этой проблемы будет бесполезно бороться увеличением чувствительности микрофона (уха) — ведь оно лишь сделает его более уязвимым для повреждения исходящими сигналами (пусть даже они и станут чуточку слабее). Эта дилемма неизбежно следует из огромной разницы в интенсивности между исходящим сигналом и его эхом — разницы, неумолимо навязываемой нам законами физики.
Какой еще выход мог бы прийти в голову нашему инженеру? Когда разработчики радара времен Второй мировой столкнулись с этой проблемой, решение, на которое они натолкнулись, было названо ими “радаром с автоматизированной передачей и приемом”. Этот радар посылал достаточно мощные импульсы, которые вполне могли бы повредить высокочувствительные антенны, ожидающие слабых отраженных сигналов. Но схема “автоматизированной передачи и приема” временно отключала принимающую антенну непосредственно перед испусканием сигнала, а затем снова включала ее — так, чтобы она успела уловить эхо.
Рукокрылые отладили технологию “автоматизированной передачи и приема” давным-давно — вероятно, за миллионы лет до того, как наши с вами предки спустились с деревьев. А работает она так. В ушах у летучих мышей, так же как и у нас, звук передается от барабанной перепонки к сенсорным “клеткам-микрофонам” по мостику из трех миниатюрных косточек, названия которых соответствуют их форме и переводятся с латыни как “молоточек”, “наковальня” и “стремечко”. Надо сказать, что соединение и расположение этих трех косточек в точности таково, каким бы сделал его звуковой инженер, чтобы решить проблему согласования сопротивлений, но это другая история. Сейчас нам важно то, что у некоторых летучих мышей к стремечку и к молоточку подведены хорошо развитые мускулы. Когда они сокращаются, эффективность передачи звука через косточки падает — как если бы вы заглушили микрофон, пальцем придавив вибрирующую диафрагму. При помощи этих мышц рукокрылые способны временно выключать свои уши. Каждый раз непосредственно перед тем, как произвести исходящий звуковой импульс, летучая мышь сокращает эти мускулы, отключая таким образом уши и защищая их от повреждения громким сигналом. Затем мускулы расслабляются, и уши возвращаются в режим максимальной чувствительности — как раз вовремя, чтобы уловить вернувшееся эхо. Такая система переключения передачи и приема имеет смысл, только если координация во времени выверена с точностью до мгновения. Летучая мышь Tadarida способна поочередно сократить и расслабить эти мышцы-выключатели 50 раз в секунду, сохраняя абсолютную синхронность с пулеметными очередями исходящих ультразвуковых импульсов. Это чудо слаженности сравнимо с хитроумным изобретением, использовавшимся на некоторых истребителях в Первую мировую войну. Их пулеметы стреляли “сквозь” пропеллер — частота выстрелов была так тщательно скоординирована с его вращением, что пули неизменно пролетали между лопастями, не задевая их.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
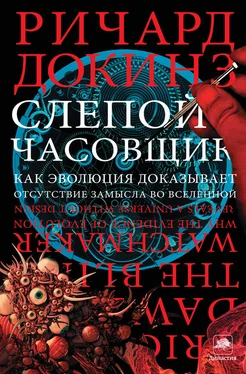








![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)