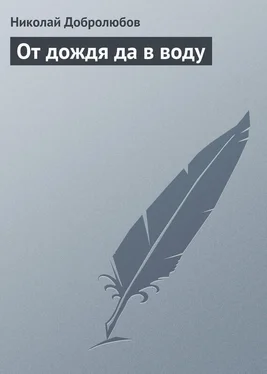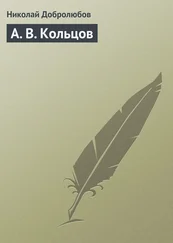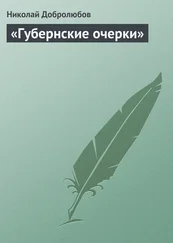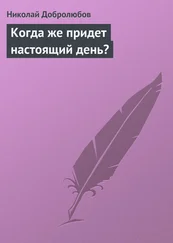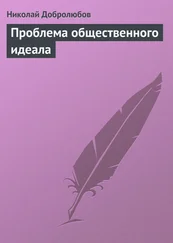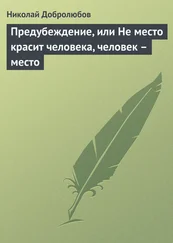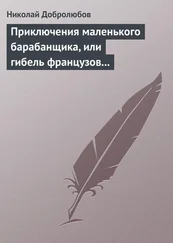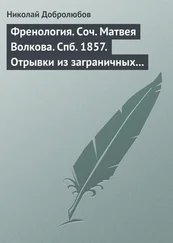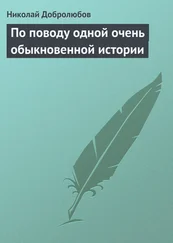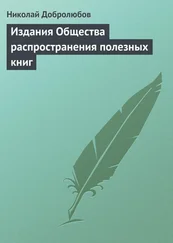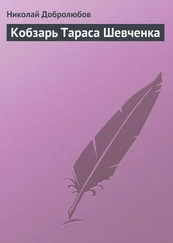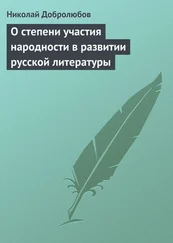«Нам могут привесть еще одно возражение: «Как ни толкуй, а детей все-таки секут». Это, конечно, очень прискорбно. Но (внимайте же!), во-первых, секут гораздо меньше (радость-то какая!). Во-вторых, количество высеченных в гимназиях (27 гимназистов) – капля в море сравнительно с высеченными дома (ну да – количество побитых г. Козляниновым с компаниею, – что же значит в сравнении с числом тех, кому дома задают потасовку!): родители все-таки не перестают сечь своих детей. Что делать, если общество так неразвито (конечно, другого нечего и делать, как утвердить его законом в его неразвитости!). Вот два примера (г. Лев Камбек мог бы насчитать и больше) {14}. В Полтавской губернии, говорил нам человек, близко знакомый с делом, многие родители взяли своих детей из одного уездного училища, заслышав, что там уж не секут; в К – е процветает частный пансион, в котором воспитываются мальчики довольно богатых родителей и в котором ученикам делается систематическая порка (ясно, что именно этот пансион и должен служить образцом для киевских педагогов!). В-третьих – наказание розгами так ограничено «Правилами», назначается за такие проступки, что оно достается только тому, кого дома любезные родители раз по пять в год секут (это в-третьих решительно совпадает с первым и вторым, но г. Драгоманов в жару защиты забывает требования логики; не будем слишком требовательны к юноше). Наконец, скажем мы с Пироговым, «самые драконовские законы не будут страшны, если будут законно применяться» (то есть неудобство розги г. Драгоманов видит только в излишней строгости этого наказания, а не в моральном его безобразии: ведь так надо понимать его, если только он изучал древнюю историю и помнит, в чем упрекали драконовские законы {15}(«Русская речь», стр. 30).
Я бы не привел отзыва г. Драгоманова, если бы не нашел подобной же мысли в самом «Отчете о следствиях введения правил о проступках и наказаниях», писанном г. Пироговым. Он тоже оправдывает свой образ действий тем обстоятельством, что «нравы общества не приготовлены еще к отмене телесного наказания». Предложив сначала эту отмену, но «не нашед сочувствия в большинстве членов», – г. Пирогов «вскоре убедился, что бесполезно было бы уничтожить на одной бумаге, под видом гуманности и современности, средство, которое и многие воспитатели и большая часть родителей признают еще необходимым». Далее, «Отчет» приводит, что еще в прошлом столетии телесные наказания в училищах отменялись, но это не удержалось именно потому, что «убеждение в необходимости телесного наказания было еще слишком сильно и у родителей и у воспитателей», В «Устав» 1828 года опять введены телесные наказания, и как нельзя более пришлись по вкусу общества: «Отцы и теперь еще обращаются в училища и гимназии с просьбами сечь детей и сами секут дома; ученики шестого и седьмого классов, не нынче, так завтра студенты, тайком, без ведома гимназического начальства, за поступки против чести секут своих товарищей. Вот факты, обличающие нравы общества» («Воспитание», II, 60).
В статейке «Всероссийские иллюзии» я уже опровергал круговую поруку домашнего сечения с гимназическим. Здесь повторю только, что именно потому и важно отменение телесного наказания в школах – что оно сильно употребляется в домашнем воспитании. Если бы общество все чувствовало отвращение к этому роду наказаний, тогда не было бы особенной важности в существовании его где-нибудь на бумаге. Это говорит сам г. Пирогов: «Если, говорит, действительно общественное мнение вопиет и громко требует отмены телесного наказания – чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады, уже верно, не менее других, и что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновному розгой или нет, – все равно: против общественного мнения не устоят никакие правила, и розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле, а это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем». Эти соображения были бы совершенно логичны и неопровержимы в устах человека, отличающегося уменьем искусно поддерживать старую рутину и даже делать в ней кое-какие починки. Но не такие слова хотели бы мы слышать от Н. И. Пирогова, человека, на которого с такой уверенностью обращались общие надежды как на человека, умеющего пролагать новые пути и проводить новые начала в общественной деятельности. Он мог бы и не ожидать, пока общественное мнение не будет уже терпеть розги; он мог дать толчок общественному мнению, мог и должен был всеми силами стремиться к тому, чтобы преобразовать его сообразно с своими началами. В этом смысле принятие на себя тех пунктов «Правил», с которыми он был сам несогласен, составляет, на мой взгляд, важную ошибку, которая и теперь едва искупается сделанными объяснениями.
Читать дальше