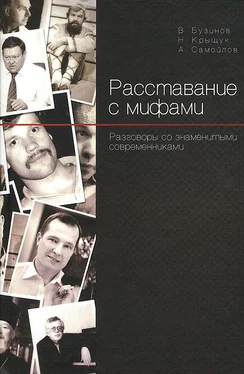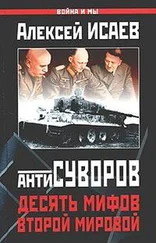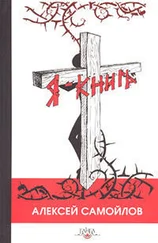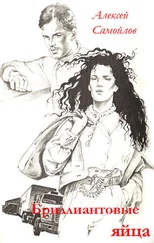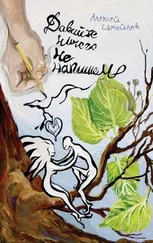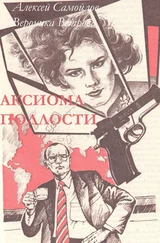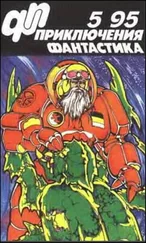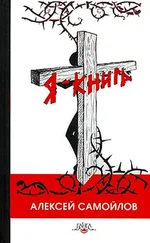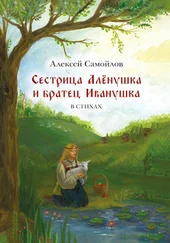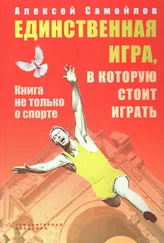По вечерам в моей тридцатиметровой, с белой кафельной печью, комнате собиралось несколько школьных товарищей, которых сменит позже, когда я вернусь из армии, рать еще не состоявшихся поэтов.
Мы читали друг другу стихи и пили… Плодово-ягодное вино, реже водку и портвейн. Закуска присутствовала на столе редко. Мы были бедны. Особенно – я. Надо было платить и за квартиру, и за обувь; надо было есть каждодневно; поскольку львиная доля денег, что присылали мне родители, а позже приносила мизерная зарплата слесаря «Ленгаза», уходила на «плодово-выгодное», – в смысле финансов пребывал я на вечной мели. И тогда я стал продавать книги из отцовской библиотеки… Они исчезали в мешке маклака, человека с обгоревшим лицом. «Горелый» уносил их, как уносят щенков или котят, чтобы утопить их. Перед уходом он бросал на стол «простынку» – сто рублей одной бумажкой, на которые можно было сообразить довольно скромное угощение на две персоны.
Ровно через тридцать лет и три года он позвонил мне по телефону. Представился: «Это я, Сережка, танкист горелый. Помнишь книжника? Ты вот теперь сам книжечки выпускаешь…» И предложил увидеться. Дескать, ему есть что сказать перед смертью… Я отказал в прощальной милости этому несчастному инвалиду. Совершил преступление против человечности… А, между прочим, мои «книжечки» начинались именно на Васильевском. Здесь рождалась первая из них – «Поиски тепла». И это ведь был мой вопль о тепле человеческом, которого мне так не хватало тогда…
Ушли мои учителя… Сгинула отцовская библиотека; в начале 90‑х умер отец; а еще раньше умер в Израиле Давид Яковлевич Дар, странный маленький человек, напоминающий сказочного тролля с гигантской трубкой во рту.
Дар был моим первым учителем в создании настоящей, с его точки зрения, поэзии. Стихи, которые я ваял по его методике, были моими первыми, опубликованными в середине 50‑х годов, стихами: «Зеркало», «Телефонная трубка», «Почтовый ящик», «Комар», «Муха», «Ерш», «Ослик на Невском». Главное, чтобы резко, контрастно, выпукло, экспрессивно. И – кратко. Вот стиходельческая концепция Дара. Его поэтическая идеология. Чтобы словом – «как кулаком по морде!» – тоже его пожелание. Я благодарен Давиду Яковлевичу за многое; главное – за дарованную – простите за каламбур – умелость, с которой было уже нестрашно отправляться в океан поэзии. Преклоняюсь я перед светлой памятью и другого своего учителя – Глеба Сергеевича Семенова, указавшего мне на эстетические и философские глубины этого океана.
– Вы стали, как считают многие, по-настоящему знаменитым после выхода в свет весной 1968‑го «Тишины» – четвертой книги ваших стихов. Критики тогда ругали ее с пеной у рта, относя в разряд антисоветских. Изъятая из продажи «Тишина» стала продаваться на черном рынке по баснословным для тех времен ценам. А как у Вас вообще складывались отношения с власть предержащими – до и после выхода «Тишины»?
– «Я тихий карлик из дупла, лесовичок ночной. Я никому не сделал зла, но недовольны мной…» Это – 1966‑й год. Из моей третьей книги стихов «Косые сучья». Мне всегда казалось, что я равнодушен к политике, но при этом меня не покидало ощущение, что политическая власть неравнодушна ко мне. Наверное, дело в том, что многое из написанного в 50‑60‑е годы, не будучи опубликованным, ходило по рукам, печаталось в Самиздате. Мои стихи не были диссидентскими: слишком густ был патриотический замес в моем сознании, слишком сильна любовь к обретенной после разлучницы-войны Родине. Но они были необычны – по-своему окаянны, своенравны – и уже потому не укладывались в прокрустово ложе официальной поэзии, раздражали отцов и блюстителей лжеидеологии той поры.
Еще в середине 50‑х кое-что из моих самиздатовских стихов, а также поэма «Мертвая деревня» фигурировали на процессе, где за антисоветскую деятельность и связь с иностранцами – сопровождение по Питеру композитора Бернстайна – судили ленинградского писателя Кирилла Косцинского. В войну он спас от смерти будущего австрийского канцлера Бруно Крайского, что дало ему возможность потом, после мордовских лагерей, остаток дней своих прожить в Австрии. К Косцинскому, как и многие неприкаянные поэты пятидесятых, я ходил в гости. Там, кроме всего прочего, гревшего мою душу, можно было досыта поесть и хорошо выпить. Как попали мои стихи в дело Косцинского – не знаю. У меня обыск не проводили, рукописей не изымали… Внешне – все вроде обошлось тихо, но видно жирная галочка против моей фамилии была в Большом доме поставлена уже тогда. Потом, в 70‑е, были всяческие передряги в связи с появлением моих стихов в изданном в Лондоне сборнике «Живое зеркало».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу