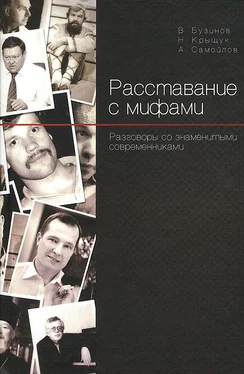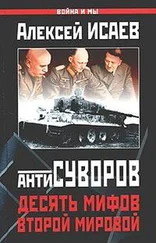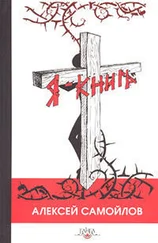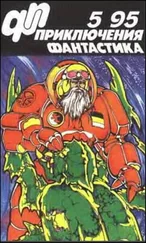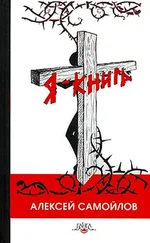Все уходит, наверное, в детство. У отца была богатая библиотека. Читать я уже умел. Но почему-то брал с полок книги, написанные старославянской вязью. Видимо, привлекали меня особые буквы. Освоившись с ними, впитывал в себя строй речи, который исторгнется из меня спустя многие годы. В двадцать три я написал за полтора месяца первую книгу, где было и мое поэтическое переложение великого «Слова о полку Игореве». Это пришло таинственно и внезапно, хотя в школе к тому же «Слову» я относился, как и все, достаточно равнодушно. А писать стихи, мало чем отличающиеся от тех, какие пишут все начинающие, начал в шестнадцать лет… И вдруг – это первое, настоящее, живое, что я написал… «Слово о полку» как бы открыло для меня путь особого языка, не путь творческий, а именно путь языка.
У меня ни поэтического кредо, ни самоопределения, какой я, – нет. Я не принадлежу ни к одному литературному направлению: ни к прошлым, хорошо известным, ни к модному постмодернизму.
От кого пошел я, сказать трудно. Мои предтечи не очевидны. Корни тянутся ко многим источникам мировой литературы. Лишнее тому подтверждение – творческие премии, которые я получал в течение последних лет. Они носят имена столь непохожих друг на друга литераторов – поэта Аполлона Григорьева, романтика и славянофила, и кумира новых поколений Сергея Довлатова.
– Признаюсь, я был влюблен в Ваши стихи 60‑х годов, в сборники «Январский ливень», «Триптих», «Всадники». Несколько позже был поклонником Вашей исторической прозы… Но порой Вы пишете излишне сложно. Одна из Ваших последних книг – «Книга пустот», как мне показалось, требует для восприятия специальной подготовки. А вообще, как Вы относитесь к критике в свой адрес?
– Приемлю равнодушно. Я газет никогда не читал… Только разве в перестройку, потому что это было больно неожиданно и забавно. Также не искал специально рецензий о себе. Иногда приносили, показывали… Хвалили, ругали, но мне это было решительно безразлично. Потому что все писалось не так… Не обо мне речь шла.
Соснора бывает тематически и стилистически очень разным. А критики продолжают видеть лишь одного, некогда возникшего Соснору.
– А кстати, фамилия Соснора… Это – от сосен?
– Что значит фамилия Соснора – никто не знает. Слова «сосна» в польском языке нет. Вообще фамилия эта в одном ряду с другими ничего не значащими польскими фамилиями:
Сосюра, Бандера, Стахура… Поляк ли я? Да, как бы на четверть поляк. Мой дед по отцу, небогатый шляхтич, родился в Луге. У него было там поместье. А женат он был на эстонке, в которой было намешано кровей – страшное дело: немецких и шотландских, финских, шведских и множество других.
Дед служил в гвардии при Зимнем дворце. В январе 1905 года он, как и многие другие офицеры, сорвал с себя погоны. Царь, по его понятию, стрелял на Дворцовой в Бога. Ведь рабочие шли с иконами, солдаты стреляли по ним, а они прикрывались иконами…
Мать моя была по паспорту еврейка… Но и тут все не так просто. Ее отец был главным раввином Витебска, но женился на гувернантке, которая была француженкой, тоже с разными другими примесями кровей. Кстати, мой дед-раввин в 1918‑м прятал у себя Марка Шагала, а потом и Казимира Малевича. Евреи Витебска очень недоброжелательно отнеслись к большевистским комиссарам и даже хотели их убить. А дед – прятал их. Он был человеком достаточно светским и знал, кто такие эти ребята… Деда потом расстреляли красные…
Отец мой, сын бывшего гвардейского офицера, вместе с братом и двумя сестрами до войны выступал как акробат-эквилибрист в Ленинградском цирке. Мать была инженером-технологом… Я родился в Алупке, где отец тогда гастролировал вместе с цирком. Потом семья вернулась в Ленинград, жили на Невском, 61, так что меня можно считать дитем Невского проспекта.
Вы не сбились в подсчете профессий моих ближайших родственников? Ну а если говорить о моих генетических истоках, то это настоящий коктейль из 16 кровей. Кто я? Не знаю… Здесь, как и в литературе, предки, в большей степени повлиявшие на меня, – не очевидны…
– Вы ведь пережили ребенком первую зиму ленинградской блокады? Какой вообще след оставила в Вас война?
– То, что было в блокаду, как и то, что было до войны, я не помню… Это исчезло из моей памяти. Как видно, уже навсегда… В 80‑х меня подвергли нескольким серьезным хирургическим операциям. Во время одной из них – это было в Тарту в 1981 году – наступила клиническая смерть. Я очнулся глухим, сидя верхом на свинье, как бы находясь в далеком 1942‑м на Кубани, куда я попал с бабушкой по отцу после того, как нас переправили по Ладоге на Большую землю, и где мы вскоре оказались под немцами. С этого момента и ведется мною теперь сознательный отсчет прожитой жизни…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу