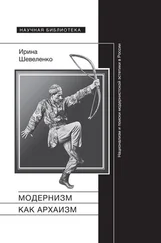Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
<���…>
Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!
<���…>
О, как – мне кажется – могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.
<���…>
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.
(СС1, 194)
Людям, отмеченным даром жить, судьба не только покровительствует («Вас златокудрая Фортуна / Вела, как мать»), но и подчиняется («О молодые генералы / Своих судеб!»). Им не дано стать бессмертными, но полнота свершения ими своей судьбы на земле преображает облик их смерти:
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.
(СС1, 195)
Однако как только Цветаева заговаривает о самой себе, ее словарь меняется. Свою собственную смерть она заклинает словами:
В лице младенца ли, в лице ли рока
Ты явишься – моя мольба тебе:
Дай умереть прожившей одиноко
Под музыку в толпе.
(«В тяжелой мантии торжественных обрядов…»; СС1, 198)
Желание в смерти быть подобной тем, кому дано «весело переходить в небытие», лишь оттеняет противоположность жизненного пути автора: этот путь прежде всего «одинок». Между образами жизнелюбивых «генералов» и собственным психологическим обликом Цветаева ощущает принципиальное несходство, которое ее тревожит и питает ее лирику. В нескольких стихотворениях 1913 года («Вы, идущие мимо меня…», «Мальчиком, бегущим резво…», «Идите же! – Мой голос нем…») именно одиночество, отсутствие желаемого контакта с миром, а значит – возможности действенно жить в нем составляет основу конфликта:
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох…
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали —
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
(СС1, 179)
«Героический пыл», который мог бы сближать героиню стихотворения с «генералами двенадцатого года», в действительности лишь оттеняет их несходство: этому пылу нет реального применения, жизнь растрачивается «даром», самовыражение не удовлетворяет, потому что никто ему не сочувствует. Это одиночество от переполненности собой сообщает пока лишь неясные очертания будущим конфликтам, предчувствием которых полны стихи 1913 года. Все, что нам известно о цветаевской биографии этого времени, заставляет считать ее благополучной: она увлечена воспитанием маленькой дочери, счастлива в любви, имеет живой круг общения. По-видимому, это жизненное благополучие и становится одним из самых «раздражающих» факторов для творческого самочувствия Цветаевой: неясные предчувствия обгоняют жизненный опыт, но не находят адекватного словесного выражения, заполняя вакуум неопределенностью «темной и грозной тоски» и попытками угадать свою судьбу.
В ряду таких попыток примечательно стихотворение «Сердце пламени капризней…», по неизвестным причинам не попавшее ни в одну из авторских рукописей «Юношеских стихов» 114:
Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.
Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.
Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, —
Я сама себе отвечу!
С детской песней на устах
Я иду – к какой отчизне?
– Все, чего не будет в жизни,
Я найду в своих стихах!
(СС1, 179–180)
Интонационная легкость этой романтической декларации не в ладу с ее смыслом. Формула, повторенная в первой и последней строфах, вполне выражает квинтэссенцию литературного кредо зрелой Цветаевой: вместо осуществления себя «в жизни» (о котором с таким пафосом говорится в других стихах этого времени) – осуществление себя «в слове», вместо «жадности жить» – отрешение от жизни и погружение в творчество. Пройдут долгие годы, прежде чем это станет обдуманной и раз навсегда определенной жизненной программой. Тем интереснее ее предвестия в стихотворении 1913 года, выговаривающем предчувствие своей судьбы с той же бессознательностью, с какой пять лет назад Цветаева признавалась в письме к П. Юркевичу в своей «любви к словам».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу