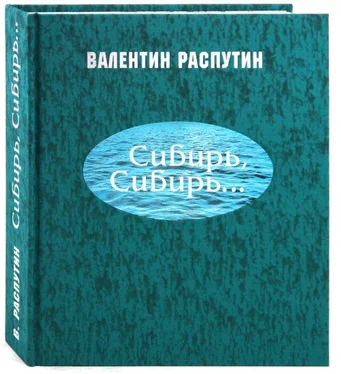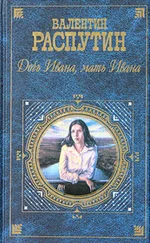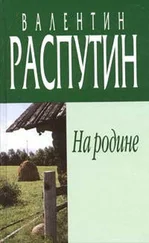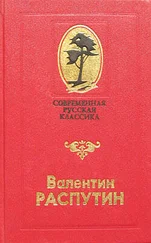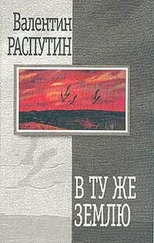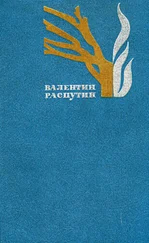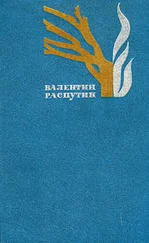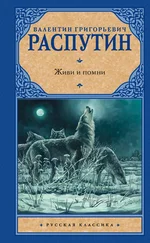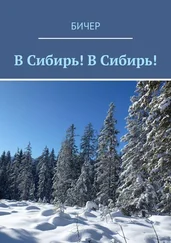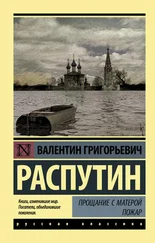Едва ли теперь удастся открыть истину, если она не открылась раньше, ближе к действительным событиям. Вероятней всего, придется Ермаку, «родом неизвестному, думой знаменитому» (Н. М. Карамзин) оставаться, как и прежде, Ермаком. Можно и расщедриться: мол, дело не в этом. Нет, отчего же — и в этом тоже. Не след нам гордиться, что от короткой памяти мы на короткой ноге со своими героями. Но нет, оказывается, и в этом случае худа без добра: среди воздаваемых ныне Ермаку почестей, которые приводятся в вышеупомянутой книге А. Г. Сутормина, есть и такая: «В молодом сибирском городе Ангарске спортивный коллектив химиков „Ермак“, названный в честь первопроходца, успешно умножает свою спортивную славу». Полным, да еще законным именем спортклуб химиков назвать было бы несподручно.
Но тут уж, верно, дело не в этом. Народ русский во все четыреста лет, прошедших после легендарного похода, помнит как:
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским», ремеслом. Его соратники могли, а он — нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предположить, зная те времена и нравы, чтобы человек, проведший в Диком поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберегся бы от привычных для казацкой вольницы занятий. Как в песне:
Ты прими-де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!
Итак, Ермак со товарищи гулял по Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешение на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы посматривали вожделенно на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой — Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естественно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.
Нам теперь уже не узнать, от кого исходила инициатива — от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгановых, решившихся наконец на серьезные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул, для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.
Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579-м, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством. Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массами. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолюдин явился выразителем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».
Читать дальше