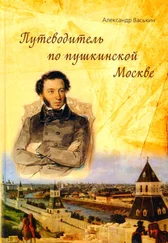Лишь в возрасте 35 лет выступил Бомарше с первой своей драмой "Евгения". Его дебют отнюдь не позволял предположить, что в литературу пришел мастер, который обессмертит себя "Севильским цирюльником" и "Женитьбой Фигаро". Политический смысл этих комедий с присущими ему точностью и лаконизмом определил впоследствии Пушкин: "Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным". Разбогатев и даже получив дворянство, Бомарше продолжал оставаться сыном "третьего сословия" и служил ему своим творчеством, расшатывая устои феодальной монархии. Недаром Людовик XVI, ознакомившись с текстом "Женитьбы Фигаро", изрек: "Нужно разрушить Бастилию, иначе представление этой пьесы будет опасной непоследовательностью". Его величество оказался провидцем: не прошло и десятилетия, как восставший народ разгромил зловещую тюрьму символ абсолютизма. А комедия Бомарше, вызвавшая "высочайшее" неудовольствие, была вопреки воле короля поставлена еще задолго до революции 1789 года.
Но все это произойдет позже, пока жд мы имеем дело с господином Каровом де Бомарше, скромным сочинителем "Евгении" и последовавшей за ней вскоре еще более слабой пьесы "Два друга". Почтеннейшая публика снисходительно смотрит на него как на богача, который "возымел фантазию сделаться автором". Неожиданно со смертью банкира Дювернэ полностью рушится финансовое благополучие Бомарше. Он находится на грани разорения, ибо доверил почти все свои капиталы Дювернэ, а наследник банкира, некто граф ла Блаш, наотрез отказался от уплаты по долговым обязательствам своего дяди. Более того, ла Блаш обвинил Бомарше в мошенничестве и добился судебного решения в свою пользу. Но не так-то легко было сломить Бомарше. В борьбе с мздоимцем судьей Гезманом он прибегнул к не совсем обычной форме защиты: из-под его пера выходят четыре памфлета - "Мемуары", где он призвал весь народ себе в свидетели (что одно уже явилось неслыханной дерзостью, учитывая принятую в те времена негласность процессов). В этих убийственных памфлетах Бомарше не только вывел на чистую воду своих противников, но и показал порочность процветавшей тогда системы французского судопроизводства в целом. По взрывчатой силе содержащихся в них разоблачений памфлеты Бомарше, которые привели в восторг Вольтера, ставились в один ряд с обвинительными речами Цицерона. Вместе с тем именно тут впервые проявил он подлинный писательский талант.
В ответ посрамленные враги начали распространять самые гнусные измышления о Бомарше, стремясь очернить его. Тогда-то и был пущен слушок о том, что Бомарше-де отравил свою жену, а вслед за нею и вторую. Не иначе, как личными переживаниями автора навеян в "Севильском цирюльнике" монолог дона Базиля - похвальное слово клевете, - положенный в основу знаменитой арии в опере Дж. Россини.
У Пушкина оба - и Моцарт и Сальери - не верят в нелепое обвинение, выдвинутое против Бомарше. Но убеждены в его невиновности они по различным мотивам, и как раз здесь кроется ключ к пониманию разительного несходства их характеров. Сальери, близко знакомый с Бомарше (об их совместной работе над оперой "Тарар" упоминает Пушкин), считает: "...он слишком был смешон для ремесла такого". В этих словах - весь Сальери с его гордыней и надменностью, с его верой в свое особое предназначение. Иное дело Моцарт! Его, казалось бы, бесхитростное объяснение свидетельствует о поразительной чистоте и возвышенности натуры:
Он же гений,
Как ты, да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные...
Эта фраза, как бы вскользь оброненная солнечным Моцартом, потрясает уязвленного Сальери: в одно мгновение рухнуло столь тщательно возводившееся им в собственном сознании построение, при помощи которого обосновал он и выносил чудовищное злодеяние. В смятении начинает он лихорадочно перебирать все читанное и слышанное когда-то, стремясь непременно вспомнить хоть какой-нибудь "прецедент": самого себя убедить в том, что "гений и злодейство" вполне совместимы. Услужливая память подсказывает ему предание о титане итальянского Ренессанса. Но оно не слишком достоверно.
Пушкинский Сальери ловит себя на том, что внутренне отвергает - хотя и цепляется за нее - припомнившуюся ему легенду о Микеланджело Буонарроти (1475-1564). Со свойственным ему безграничным презрением к людям приписывает он ее "тупой, бессмысленной толпе". Однако отнюдь не "толпа" повинна в возникновении подобных "сказок", а именно разноликие сальери, какие окружали и Микеланджело и самого Пушкина.
Читать дальше