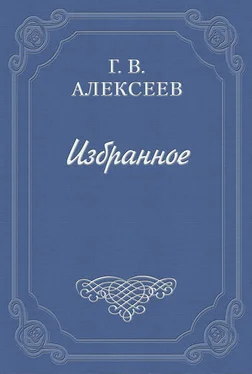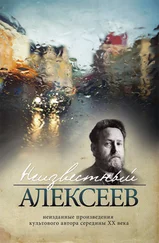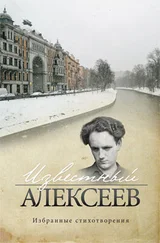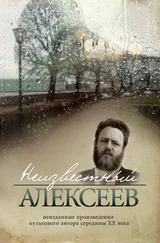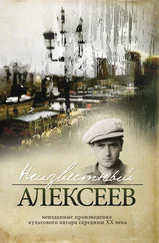По залу идут двое: первый – бритый и черный, в кубанке, в ладных сапогах, в серебряном пояске – советский с головы до ног. Командир красного полка, буденновец, председатель какой-нибудь уездной чрезвычайки? Александр Кусиков. Второй – небритый и рыжий, волосы стоят, как у ежа, в сером, не по плечу, костюме, выданном в Кремле по ордеру, чтоб в Европе было не стыдно показаться. Борис Пильняк. Искусство внепартийно: приехавших писателей встречают аплодисментами. Газеты в последние дни сообщали, что «есть еще в пороховницах порох» и не в пример «цветам эмиграции» приезжают вот из России настоящий писатель и настоящий поэт.
Молодой человек в кубанке влезает на эстраду и объявляет:
– Говорят, что – я сволочь!
– Да? – не удерживается кто-то в зале.
– Да, – подтвердил молодой человек. – Что я – хитрый и злой черкес…
Когда от неожиданности в зале захлопали, Кусиков рассказал еще, что у него на Кубани имеются пень и конь. На первом он любит посидеть вечерком, когда «совий сумрак рябьим пером зарю укачивает». На втором он умеет скакать сломя голову. При этом он очень обстоятельно объяснил некоторые моменты своей скачки: с уздой, без узды, с гривой, без гривы…
Сидевший рядом со мной кавалерийский поручик убежденно заметил:
– Врет.
Покончив с частью биографической, Кусиков приступил к части философической, напомнив сидящим в зале профессорам, ученым и не последним писателям земли русской о том, что «пророк с крестом не убивал», а вот «с мечом пророк казнил не раз», что он, Кусиков, об этом знает и потому совершенно не уверен, что ждет его «в нигде веков». Я бы не сказал, что эти философические открытия кубанского черкеса произвели на слушателей большое впечатление: большинство из присутствующих интересовалось этими вопросами еще прежде – в шестом классе гимназии, и потому некоторые потянулись из зала к стойке, к приманчивым бутылкам эйерконьяков и шерри-бренди.
Когда Кусиков, наконец, ушел, на эстраду поднялся Борис Пильняк, облокотился на рояль, открыл тетрадку и громко принялся читать о том, как воют вьюги и свистит песками ветер.
– У-у-у… – представлял он.
– Ы-ы-ы… – убеждал он.
Первые полчаса мы, литературная молодежь, поднявшаяся в изгнании, сидели, вообще, раскрыв рты. Возможно, что мы ничего не понимаем, что именно вот это завывание и, видимо, не случайное совместное выступление – и есть подлинное искусство. Как писать о солнце – стреляет ли оно игольчатыми и розовыми стрелами или не стреляет? – если это никому не нужно в ходе революции? Когда неосторожной ногой сворочен на сторону муравейник, муравьи не замечают дождя. И, может быть, время кропотливой выписи пейзажа, до деталей разработанных фабулы и характеров в русской литературе прошло, и подлинное творчество – вот эта, поднятая над головой, праща, мечущая камни, не поймешь куда и за что? Я слушал очень внимательно, но не понял ничего: ни фабулы повести, ни характеров отдельных лиц, и ни один отдельный эпизод не удержался в моей памяти. Как все, я пошел домой с горьким чувством не то разочарования, не то обиды. Было еще ощущение какой-то тупой сиротливости, но кто может требовать от музыканта, чтобы он играл Бетховена в доме, охваченном пожаром?
Молодой писатель, шедший со мной рядом, уныло спросил:
– Вы заметили корректурную ошибку в сегодняшних газетах?
– Какую?
– Было напечатано: Пыльняк, а не Пильняк.
– Разве?
– Его сегодняшнее чтение напоминает мне именно пыль. Вздут целый столб пыли – залезает в глаза, уши, ноздри, прихватывает дыхание, гнездится в складках одежды, а самого столба не видно.
– Я бы сказал другое. Мне – сегодняшнее чтение напомнило музыку, переданную плохим фонографом.
* * *
Собрались мы – поближе присмотреться. В подходе молодых писателей друг к другу всегда есть что-то сторожкое, но нежное. Рыжий нескладный Пильняк, закапанный веснушками, в круглых роговых пенсне – подарок заграницы – пришел шумный, но очень простой и ласковый. Говорил, как Маша, жена его, ухаживает за коровой – купил корову, распродав библиотеку: на что она, раз в Москве только жить – просыпаться, глядеть и дышать – есть уже искусство. Еще о том, что надо возвращаться – жене одной в хозяйстве трудно, еще не свыклась: была до революции врачом, и есть слух, что больна тифом.
Звал в Россию. Тут писателю помирать, а в России – от Вержболова до Москвы – готовый роман. Но упреждал честно: многого там не понять тем, кто не шел в ногу, а и поймет – донести трудно.
Читать дальше