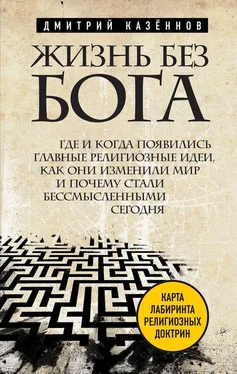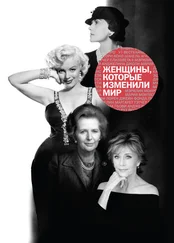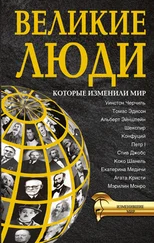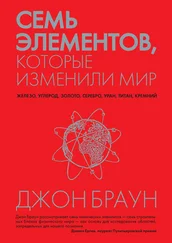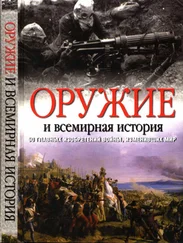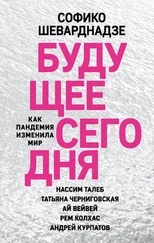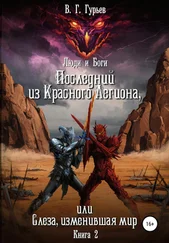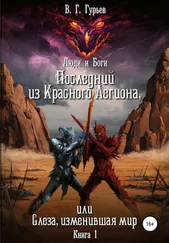Вот главное, что необходимо повторить: наиболее полное понимание самой природы религии порождает вовсе не эмоциональное отрицание. Эмоциональные реакции свойственны аудитории рассказа, но не исследователю-филологу. То же справедливо и в отношении религии и философии. Если понять логическое устройство и историческое происхождение религиозных идей, буквально воспринимать их невозможно. А поможет понять, почему, подробный и хорошо иллюстрированный рассказ об истории величайших и наиболее одиозных заблуждений.
Для симметрии классикам я хочу подробно процитировать таких авторов, как Бэкон и Гольбах. Это позволит показать историю становления естествознания, сопутствующей естествознанию эмпирической философии и атеизма Нового времени – а также того, что наследует атеизму, но становится значительно большим, чем просто преодоление религии. Я заранее прошу прощения у читателя, если вступление к нашей дискуссии покажется сложным. Я совершенно уверен в том, что это необходимо! Только рассказав подробно об истории становления религиозных и естественно-научных взглядов, я смогу убедительно сравнить их, дать им оценку и вынести суждения в ту или иную пользу.
И наконец после этого можно будет рассмотреть конкретные точки столкновения религиозных и метафизических идей с принципами аналитической философии и естественных наук. То есть сперва подробно изложить, подробным цитированием объяснить исторический контекст конфликта религии и науки, а затем уже перейти к экстраполяции этого исторического контекста на современность. Так данная работа и будет построена: в первой половине подробный контекст проблемы, а во второй – выводы, аргументация, и самое главное: авторская позиция.
А главная мысль всего моего рассказа, в обоснование которой будет сказано так много, сама по себе удивительно проста: религия кажется мне философской пошлостью, чем-то до смешного обычным и тривиальным .
I. Метафизика и религия. Происхождение великих мифов
– Что есть истина? —
Понтий Пилат Иисусу Христу
(Ин 18:38).
Религия – это собирательное и не особенно строгое понятие. Для европейцев, и в частности русских, характерно отождествлять понятие религии с иудаизмом, христианством и исламом, иногда прибавляя к ним античную и европейскую мифологии. Кроме этого, принято говорить об индуизме, буддизме и синтоизме. Но что делать с бесчисленным множеством других мифологий, включая мезоамериканские или полинезийские? Что делать с шаманизмом, который исследовал Мирча Элиаде, или современными культами «Новой эры»? Что вообще характерно для религии? Европеец сказал бы, что религии связаны с фигурой бога, но даже если мы сравним иудейского Яхве, христианского тринитарного антиномического бога и мусульманского Аллаха, мы обнаружим, что это три совершенно разных персонажа. Да-да, именно так: я не вижу никакой связи между Яхве, которого врукопашную поборол в своем шатре Иаков, и той апофатической абстракцией блага, которую постигали через «нетварные энергии» восточные мистики на горе Афон. Но даже самая обобщенная фигура божества не является отличительной особенностью того множества мифов, которые мы называем религиозными, иначе как нам относиться к буддизму или сайентологии? Чтобы сделать ситуацию еще интереснее, добавлю, что не вижу принципиальной разницы между религиозным культом и магией контакта и подобия, как их описывал Джеймс Фрэзер, или даже между религиозными мифами и мифами в широком смысле, включая социально-политические мифы вроде марксизма, или городские легенды, которые разрушают Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж («Разрушители мифов»).
Я не шучу. Если мы принимаем для исследования тропов человеческой мифологии (и в целом культуры) метод структурализма, то рано или поздно начинаем видеть нарративы даже в повторяющихся сценариях повседневного здравого смысла, а различание «глубокого» и «мелкого» или «эзотерического» и «массового» теряет смысл.
Ситуация начинает казаться запутанной, но именно поэтому я предлагаю начать разговор о природе религии вовсе не с религий самих по себе. Представьте себе, что религиозные сюжеты – это изменчивая поверхность, повторяющая жесткую, но не видимую нами структуру. В человеческой культуре и литературе есть нечто более фундаментальное, чем чудеса и пророки. Полагаю, начать разговор следует с той скрытой внутренней логики, которая делает возможными и сами религии, и дискуссию о религиозности как таковую. Я имею в виду метафизику, жанр рассуждений о всем том, что не дано в чувственном опыте, но запросто существует по крайней мере в языке.
Читать дальше