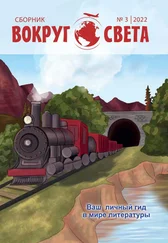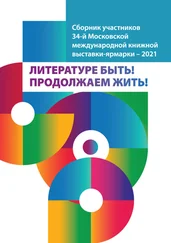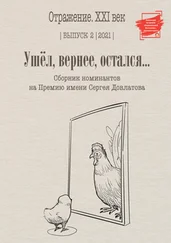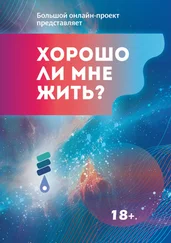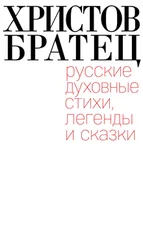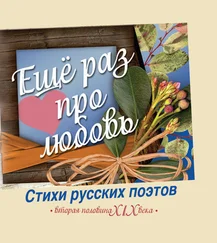Издатель и общественный деятель Иосиф Владимирович Гессен, двоюродный дядя моей мамы, писал, что с Владимиром Дмитриевичем Набоковым его «связывали узы 20-летней совместной и согласованной общественной деятельности и все крепнущей безоблачной дружбы». И. В. Гессен первым из издателей заметил и оценил растущее мастерство его сына Владимира, печатавшегося в Европе под псевдонимом «Сирин». После гибели В. Д. Набокова, благороднейшего человека, ценою своей жизни спасшего П. Н. Милюкова от пули террориста-черносотенца, И. В. Гессен стал старшим другом его сына. И. В. Гессен писал, что ему посчастливилось встретить в жизни двух гениев: С. С. Прокофьева и В. В. Набокова, причем последний «по своей памяти был исключительный избранник Божий». В автобиографической книге «Другие берега» В. В. Набоков с большой теплотой пишет о И. В. Гессене.
До революции будущий писатель Владимир Набоков учился в Тенешевском училище вместе с маминым старшим братом Даниилом и играл с ним в одной футбольной команде. Семьи Набоковых и Гессен поддерживали очень теплые отношения. И хотя Набоковы вынуждены были покинуть Россию, мама приезжала каждое лето в Рождествено. Видимо, там сохранилось нечто, что навевало какие-то радостные воспоминания.
Лето 1941 года наша семья, как всегда, проводила в Рождествено. 23 июня, в день моего рождения, ждали гостей из Ленинграда. Но никто не приехал. Через два дня узнали, что началась война. Маму вызвали в школу и предложили сопровождать детей Дзержинского района в эвакуацию. В начале сентября 1941 года поезд с детьми отошел от перрона Московского вокзала. На станции Старая Русса Новгородской области налетели фашистские самолеты. В результате налета пострадал эшелон с детьми, а стоявший на соседних путях воинский эшелон уцелел. До сих пор у меня перед глазами стоит картина: красноармейцы в скатках через плечо вытаскивают из горящего состава детей, бегут с ними через железнодорожные пути и усаживают их в открытый кузов автомашин с газогенераторными двигателями, работавшими на дровах. Потом мы оказались в Костромской области, где и пробыли до конца войны… (сейчас в Костромской области, как и в других областях России, находят пристанище украинские беженцы, спасающиеся от авиации и артиллерии современных фашистов).
Вначале я находился в районном центре – селе Парфеньево в детском саду, а мама в это время жила в деревне Матвеево в 20 км от Парфеньево. Из Матвеево мама ходила в Парфеньево пешком, чтобы повидать меня. В селе Матвеево расположился интернат ленинградских детей школьного возраста. Мама работала воспитателем в интернате и преподавала в школе немецкий язык.
Первые ночи в детском саду были очень тревожными. Я и другие дети просыпались от взрыва бомб. Это фашисты бомбили мосты на Волге. Дежурная няня подходила к каждому и успокаивала.
В детском саду я обнаружил, что у воспитательницы имеются любимчики. Я это сразу почувствовал. В их число я не попал, и это мне было неприятно. Таким образом, неравенство я начал ощущать еще в дошкольном возрасте. Еще одно воспоминание о детском саде связано с отправлением естественных нужд. Девочки и мальчики садились на горшки по команде, но сидели на них разное время. Некоторые сидели так долго, что у них выпадала кишка. Тетка в белом халате клала ребенка с выпавшей кишкой на стол животом вниз и с помощью ваты заталкивала кишку на место.
Летом 1945 года мама приехала за мной на телеге и повезла в Матвеево. Хотя стояло лето, она надела на меня зимнее пальто. Ехали мы по лесной дороге очень долго. Лошадь постоянно останавливалась, жевала придорожную траву или пила воду из луж. На протяжении 20 км нам попался всего лишь один дом, но он был очень странный: деревянный, узкий, высокий, с крутой деревянной наружной лестницей, похожий на пожарную каланчу в Парфеньево.
Село Матвеево меньше Парфеньева. В нем имелись школа, правда, она появилась только с приездом ленинградских детей, больница, двухэтажное здание интерната. Все деревянное. Дома крестьян просторные, добротные, с деревянными полами, в то время как в соседней деревне Григорьево полы в низких бедных домах были земляные. В Григорьево сохранилась церковь, которую посещали жители Матвеево. Колокольный звон разносился далеко.
Все интернатские дети были заняты какой-нибудь работой в интернате или в колхозе. Мне было поручено пасти свиней. Целыми днями они лежали в дорожной пыли и не причиняли мне никаких хлопот. Иногда я садился на спину какому-нибудь борову и катался на нем верхом. Мне часто приходилось таскать на кухню наколотые старшими ребятами дрова. После этого руки очень болели. Поздней осенью я вместе со старшими ребятами убирал на полях кочаны капусты. Уже было холодно, и руки мерзли. Мы залезали в сарай без дверей на столбах, приподнятый над землей примерно на метр. Разжигали там под крышей костер и грелись. С удовольствием ели капустные кочерыжки.
Читать дальше
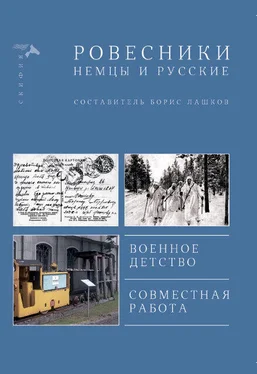


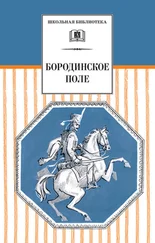
![Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник]](/books/419163/kollektiv-avtorov-rovesniki-nemcy-i-russkie-sbor-thumb.webp)