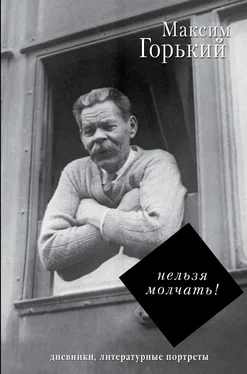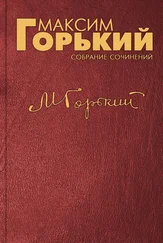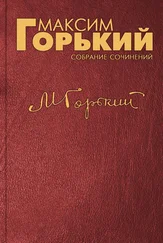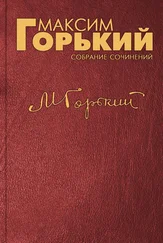Выбора не оставалось – сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже были столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М.И. Будберг, комната Н.Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую – И.Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е.П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболь, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П.П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.
Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозванию Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.
– Это мой карандаш!
– Нет, мой!
– Нет, мой!
На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух – яд для организма», – говорил он. Стоя в дыму, он кричал:
– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!
– Да он же мне нужен!
– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!
Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.
Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и, если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.
Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», – потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх.
Читать дальше