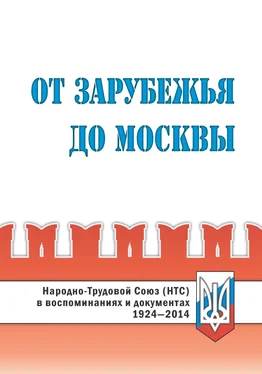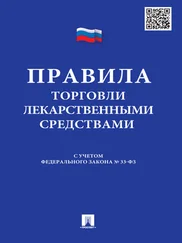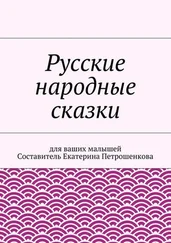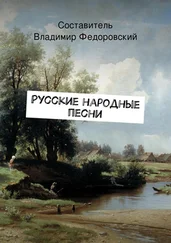Не напрасны ли все эти жертвы, принесённые за полвека до падения советской власти? Сроков не дано знать никому. Люди выступали против преступной власти не потому, что перед ними маячил близкий успех, а потому, что лишь действенное противостояние они считали нравственно достойным. Подвиг независимо от его практических результатов ценен сам по себе и входит в сокровищницу духовного наследия нации.
С началом Второй мировой войны положение русской эмиграции в разных странах изменилось по-разному. Во Франции эмигрантская молодёжь была призвана в армию, воевала против немцев; многие отличились. После капитуляции именно русские эмигранты начали создавать подпольное Движение Сопротивления, куда вошли и некоторые члены НТС. До июня 1941 г. СССР был связан с Германией договором дружбы, и коммунисты вступать в антинемецкое подполье не могли.
Иная обстановка сложилась на Балканах. Летом 1941 г. в оккупированной Сербии партизаны-коммунисты начали терроризировать русских эмигрантов, видя в них противников Сталина. Под предлогом защиты от партизан руководители белой военной эмиграции попытались воплотить мечту о «весеннем походе». В сентябре 1941 г. немцы согласились создать Русский Охранный Корпус (в просторечии Шуцкор) на условиях, которые русская сторона видела так: а) только командир Корпуса принимает приказы немецкого командования; б) Корпус носит русскую форму, не входит в состав вермахта и его чины не приносят присяги Германии; в) Корпус будет использован только для борьбы с красными партизанами, а после их подавления будет отправлен на Восток. Через Корпус прошло 16,8 тысячи добровольцев, русских эмигрантов с Балкан. Лишь единицы из них состояли в НТС, так как Союз участия в Корпусе не одобрял, полагая, что борьба с титовскими партизанами отвлекает от главной задачи – создания политической силы в оккупированной России.
Союз был причастен к другой попытке «весеннего похода»: А. П. Столыпин от имени Совета НТС вел переписку с маршалом Маннергеймом о создании Русской народной армии из советских военнопленных во время финской войны 1939–1940 гг. Вступить в связь с НТС Маннергейму посоветовал его сослуживец по Императорской армии генерал Н. Н. Головин, а формированием отрядов занялся Б. Г. Бажанов, технический секретарь Политбюро ЦК ВКП(б), ставший в 1928 г. невозвращенцем. Западные державы обещали поддержать это начинание, но Сталин войну вовремя прекратил.
НТС в Германии в августе 1938 г. свой Отдел закрыл, чтобы не попасть под контроль нацистов; его председатель покинул страну. Однако германское Верховное командование интересовалось взглядами НТС на возможную войну с СССР и в ответ получило меморандум М. А. Георгиевского: без союза с русским народом победа Германии невозможна. В нацистском руководстве тем временем верх брали противоположные взгляды, о чём НТС предупреждал эмиграцию, склонную возлагать на немцев надежды.
Позицию НТС на случай войны Германии с СССР озвучил Байдалаков на большом собрании в Белграде 22 февраля 1939 г.: «С кем идти? У русской совести может быть на это только один ответ: не со Сталиным, не с иноземными завоевателями, а со всем русским народом… Борьба на два фронта – с завоевателями извне и с тиранией внутри – будет весьма тяжела, [но] Россию спасёт русская сила на русской земле: на каждом из нас лежит долг отдать себя делу создания этой силы».
Реальную «Третью силу» создать не удалось, но была поставлена нравственно внятная цель. Она требовала и контактов с западными державами. При посредничестве польского правительства в изгнании М. А. Георгиевский должен был выехать в Лондон, но внезапная оккупация Югославии немцами в апреле 1941 г. сорвала этот план. Вёл он также переписку с членами НТС в США, но это были в основном студенты, не имевшие влияния на большую политику.
В мае 1941 г. в оккупированный Белград прибыл участник Белого движения В. М. Деспотули, редактор официозной берлинской газеты «Новое Слово». Он убедил других членов Исполбюро в том, что положение небезнадёжно, что на немецкую восточную политику можно будет влиять, но для этого надо находиться в Берлине. В августе туда из Белграда отправилась группа В. М. Байдалакова, за ней другие. Арестованных в апреле в Праге и Париже членов Союза немцы отпустили и тоже направили в Берлин. М. А. Георгиевский остался в Земуне (пригороде Белграда, отошедшем при немцах к Хорватии); в делах Союза он не участвовал, а после прихода Красной армии был арестован, отправлен на Лубянку и в 1950 г. расстрелян.
Читать дальше