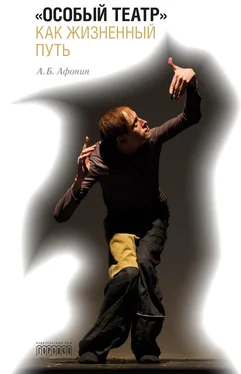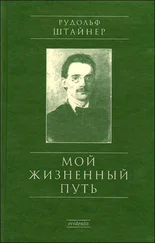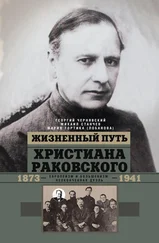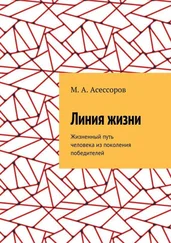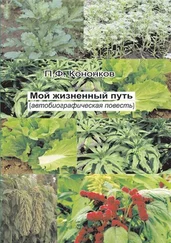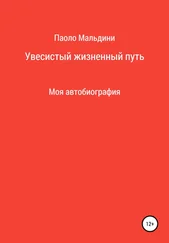В связи с вышесказанным я употребляю в книге именно такую терминологию: «особый театр» и «человек с особенностями развития». В силу ряда причин в нашем театре по преимуществу участвуют люди с ментальной инвалидностью и/или психофизическими нарушениями: с генетическими нарушениями, расстройством аутистического спектра, с интеллектуальной недостаточностью, нарушением опорно-двигательного аппарата, различным психиатрическим опытом. Термин «ментальная инвалидность» – калька с английского mental handicap – описывает определенное многообразие нарушений интеллектуального развития и психофизических нарушений. Прежде всего речь о врожденных причинах, которые невозможно точно установить, но которые отложили свой отпечаток на способы восприятия и деятельности человека в мире. Этот термин в РФ также не имеет легитимного профессионального хождения. Но нам, не занимающимся постановкой диагнозов и реабилитацией людей с особенностями развития, этот термин просто помогает понять, с какой категорией особенностей по преимуществу мы имеем дело. То есть по преимуществу – это не слабослышащие, не слабовидящие, не слепоглухие, не люди, попавшие в аварию, не люди, больные раком, и т. д. Хотя это вовсе не означает, что, если к нам попадут люди с такого рода особенностями вследствие нарушений жизнедеятельности, мы не будем с ними работать в творческой области.
Председатель Регионального отделения Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» (г. Москва), художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии «Круг II»
Афонин Андрей Борисович
Взаимодействие с внешним миром
Прежде чем начать разговор о театре людей с особенностями развития, нужно обозначить ряд тем, прямо или косвенно имеющих отношение к развитию и становлению этих людей в нашем культурном сообществе, и, собственно, к проблемам, с которыми они встречаются. Первое, на чем стоит заострить внимание, – это цели педагогического и образовательного процессов, способы их достижения и результаты относительно людей с особенностями развития. Очень часто об этом не говорят и даже не думают. Кажется, что и так все понятно. Если мы декларируем социальное равенство, то у людей с особенностями должны быть те же равные со всеми права: на образование, труд, самостоятельную жизнь, включающую самостоятельную сексуальную жизнь, на отдых, развлечения и т. д. Это – неотъемлемые права любого (или все же не любого?) человека. Закон говорит, что с 18 лет человек становится полноправным членом социума со всеми вытекающими последствиями как прав, так и обязанностей. Мы понимаем, что к этому времени человек должен как-то приобрести навыки ответственного поведения члена социума. Видимо, этому способствует (хотя и не гарантировано) его нахождение в социальных институтах: детском саду, школе, вузе. Однако нам кажется, что этого недостаточно для развития полноценного человека, и мы отдаем детей в разные студии заниматься рисованием, игрой на скрипке или танцами. Таким образом, можно сказать, что существует достаточно большое количество различных учреждений, так или иначе занимающихся подготовкой зрелого члена общества. В педагогическом процессе для детей цель всегда определяет именно общество, которое заинтересовано в получении новых членов. В советское время было престижно учиться на инженера, чуть позже – на банкира или создателя компьютерных программ, сейчас модно учить китайский и т. д. Вроде бы в общем виде образовательная система работает и вполне понятно как. Обществу нужны люди, которые могли бы в дальнейшем развивать его. Однако внутри нашего общества не существует системы, позволяющей людям с особенностями развития быть вписанными в структуру социальных взаимоотношений. А если так, то не существует и социальных институтов, помогающих им становиться полезными членами общества. Что же с ними делать, с этими людьми?
Существуют два разных подхода: педагогический и медицинский. «Для первого – предметом внимания является вторичный дефект и педагогические пути его коррекции. Учителя строят свои методы обучения, опираясь прежде всего на современные им философские идеи, в меньшей степени интересуясь первичным биологическим дефектом и его этиологией… Медики концентрируют свое внимание на лечении, т. е. предметом их профессионального интереса становится первичный биологический дефект, а обусловленные им социальные ограничения, нарушения жизнедеятельности остаются вне сферы их внимания» [3] Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. Ч. 1. Западная Европа. – М: УПК «Федоровец», 1996.
. То есть медики по роду своей деятельности не могут признать человека с особенностями развития «нормальным». Собственно, любой человек, попадая к медику, – уже «ненормальный». У человека с особенностями развития априори нет возможности вырваться из рук медика. Если в обществе преобладает медицинский подход, с одной стороны, это свидетельствует о признании права называться человеком, а с другой – об отсутствии признания социальной полезности. Профессионалы, занимающиеся развитием и коррекцией людей с особенностями, как правило, видят прежде всего патологию, ее симптомы, их неотвратимость и негативные последствия в ситуации современного социума. Такой специалист считает инвалида несостоятельным в контексте современных запросов и не видит выхода из ситуации неадекватных требований общества по отношению к нему. Требования общества считаются неизменными, патология, по большей части, тоже константна. Человека надо лечить, однако «болезнь» его неизлечима. Он становится объектом заботы, но ни в коем случае не является субъектом, с которым необходимо находить общий язык, иметь в виду его особое мнение. Естественно «объект» и не может претендовать на сколько-нибудь серьезное творчество, не говоря уже об искусстве. Для педагогов же, к которым частично относятся специалисты, занимающиеся искусством, важен человек и особенности его восприятия и действия, а также особенности его социальной коммуникации, связанные прежде всего с так называемой вторичной патологией личности, то есть с тем, что было сформировано окружавшим его социумом в качестве нормы социальных отношений.
Читать дальше