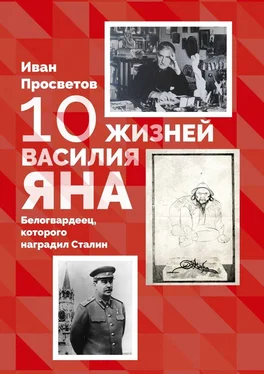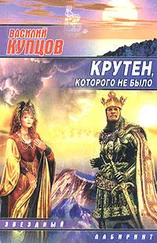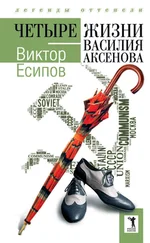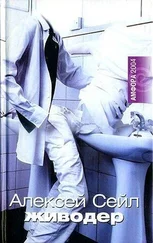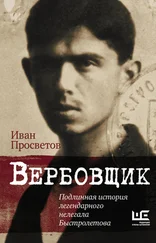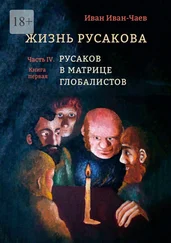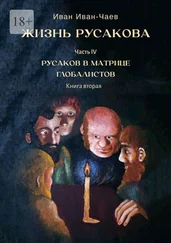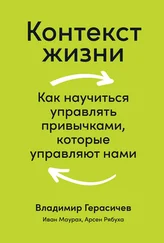Что ответил Абакумов и ответил ли – неизвестно. Участь Михаила Янчевецкого была решена уже фактом ареста, как и тысяч других обвиняемых по 58-й статье, независимо от их заслуг. Ахматова писала самому Сталину, но ее Левушка получил 10 лет лишения свободы «за террористические намерения и антисоветскую агитацию» [18].
***
Ян продолжал работать. Пока работал – черные мысли не лезли в голову. Он уступил пожеланию издательства и разделил «Золотую Орду» на две части – повесть о юности и победах Александра Невского и роман о последнем походе Батыя. Но сил оставалось совсем мало. Сохранилась рабочая тетрадь Яна, датированная ноябрем 1949 года. На первой ее странице наклеена вырезка из журнала – фотография фрагмента звездного неба. Ниже подпись карандашом: «Моя родина – созвездие Плеяд, куда я надеюсь когда-нибудь вернуться». Попытайтесь представить, что может твориться в душе человека после стольких жесточайших ударов. И, тем не менее, он создавал любимые пленительные образы.
…В нескольких шагах от большого шатра Гаврила Олексич остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, помня, что на чужом пиру надо покоряться хозяину. Слуги разостлали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани, незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног…
Ян переписал страницы о поездке Александра Ярославича в Орду, во главе русского посольства поставил ближнего дружинника князя. В издательстве категорически не хотели публиковать рассказ о том, как Александр Невский ездил «на поклон» к Батыю (хотя Югов в своем романе описал визиты князя в ханскую ставку как дальновидную дипломатию, и такой же замысел был у Яна). «Я весь вечер погружался в русскую историю, и я убеждался, как не прав был А.А-й, какая сложная была обстановка и свары князей в XIII веке» (запись в дневнике от 18.IX.49). «Стараюсь выправить Александра Н., хочу показать его необычайным, молодым, пламенным» (14.XII.50). «Мне теперь очень жаль, что я согласился на разделение моего такого „полноводного“ романа. Все же сделаю все возможное, чтобы два романа-подростка сказали что-либо новое» (24.XII.50).
О том, что случилось в семье, знали только те, кто не мог не знать. Для всех других Миша Янчевецкий уехал в длительную командировку на север. «Миша пишет хорошие, оптимистичные письма, говорит, что много работает и над любимым делом, и над собой, много читает, занимается самообразованием, – сообщал Ян Александре Огневой. – Мы с нетерпением ждем его возвращения» [19].
Погружаясь в прошлое, Ян не забывал о том, что диктовало настоящее. «Да хранит тебя нимфа удачи! Но от тебя требуется неусыпная осторожность, чтобы не сделать по рассеянности ненужных вещей», – предупреждал он дочь Женю, преподававшую историю зарубежного театра в ГИТИСе. В конце 1940-х Василий Григорьевич по просьбе издательства подготовил «Творческую автобиографию» и дополнил ее словами: «В моих книгах я старался рассказать о героизме мирных народов, дававших мужественный отпор любым вторгавшимся в их пределы хищникам… Этим я надеялся внести свою посильную долю в дело торжества справедливости и добра, в великую идею мира, знаменосцем которой был и навсегда останется товарищ Сталин». Так полагалось. В Сталина верили, даже если осознавали, какую государственную систему выстроил «мудрый вождь и учитель». После великой победы этот человек стал абсолютно велик и всевластен. Анна Ахматова, когда под следствием оказался ее сын, на день рождения Сталина сочинила панегирик: «И благодарного народа вождь слышит голос: „Мы пришли cказать – где Сталин, там свобода, мир и величие земли!“».
Единственная критическая ремарка о настроениях времени, обнаруженная мной в записках Яна, касается отказа «Литературной газеты» напечатать его статью о Ленинской библиотеке. Дата – 9 февраля 1950 года. « [Редакция] известила, что гонорар за нее все-таки мне выплатят. А мне этого и не нужно. [Статья] не пойдет потому, что написана не в том стиле, как требуется «у нас», а я писал очень точно и спокойно, без той истерики, которая сейчас завелась, т.е. кого-то громить» [20].
«Литературная газета» – печатный флагман борьбы с космополитизмом и безыдейностью – разогналась настолько, что принялась разбирать творчество лауреатов Сталинской премии: прозаиков Катаева, Панферова, драматурга Софронова. Ее главный редактор Ермилов еще в марте 1949 года на совещании в отделе агитации и пропанганды ЦК ВКП (б) пообещал вести «борьбу за советский патриотизм гораздо более углубленно». Но, в конце концов, потерял чувство меры и начал подкапывать под генерального секретаря Союза советских писателей Фадеева, якобы не сумевшего «мобилизовать литераторов на повышение идейно-художественного качества литературы». Фадеев пожаловался Сталину, и в феврале 1950 года Ермилова сняли с должности. Сейчас публично-закулисное соперничество писателей и критиков за то, кто вернее понимает указания партии и настроения ее вождя, кажется дурной фантасмагорией. Но тогда это был вопрос творческой жизни и смерти, а подчас не только творческой. Одни интриговали, другие приспосабливались, третьи старались, как могли, держаться в стороне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу