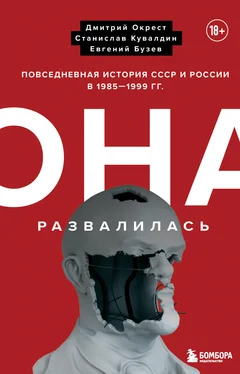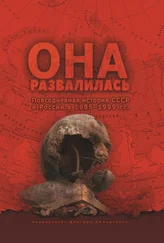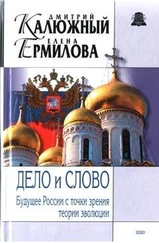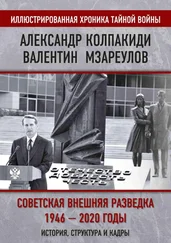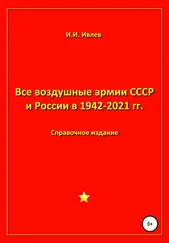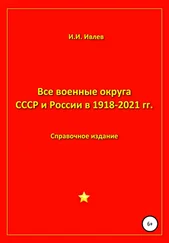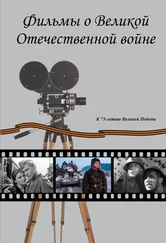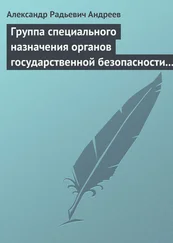Важно, очень важно ни на секунду не забывать, что наше представление о девяностых – не только о том октябре, но вообще обо всем, что происходило в промежутке между Горбачевым и Путиным, – сейчас во многом формируют буквально те же люди, которые двадцать лет назад были важными действующими лицами, принимали решения или уговаривали нас сделать выбор. У этих людей конфликт интересов, и им всегда будет важно оставаться уверенными в своей тогдашней правоте и заражать нас этой уверенностью. «Повтори, малыш: Макашов-Баркашов», – как бы просит меня седой политолог из того времени, точно так же, как старый большевик в шестьдесят каком-нибудь году говорил юному современнику о плохом Сталине и хорошем Ленине.
Девяностым нужен свой Солженицын, свое «Красное (красно-коричневое? – О. К.) колесо», чтобы старый большевик утерся и не смел больше тиражировать старую ложь. Монополия коллективного «Ельцин-центра» на то, чтобы рассказывать нам о девяностых, должна быть разрушена – без этого нам так и придется до скончания века играть в плохого Путина и хорошего Ельцина, путешествуя по кругу, чередуя оттепели и закручивания гаек. В наших условиях появление постшестидесятнического взгляда на ельцинское десятилетие было вопросом не героизма, как во времена «Августа четырнадцатого», а просто времени – надо было дождаться, когда вырастут подростки девяностых, у которых нет конфликта интересов.
Олег Кашин
Предисловие’2021: к юбилею краха СССР
Книга, выдерживающая больше одного издания – это уже динамический процесс, движение, путешествие по волнам контекста. Какой-нибудь канонический героический текст о начале советской власти, фадеевский «Разгром» или даже «Хождение по мукам», в 1937-м читался как родословная сталинизма, в 1962-м – наоборот, как история о славном времени, к которому хорошо бы вернуться, преодолевая последствия культа, в 1989-м – как рассказ об истоках национальной трагедии, в 2000-м – как не вызывающий серьезных эмоций документ эпохи.
Наше знание о девяностых – процесс такой же динамический, лихое десятилетие до сих пор не нашло себе окончательного места на карте памяти и мечется по ней, то и дело попадая в линии уже современного нам общественного раскола. Консенсуса по отношению к таким временам не бывает, вероятно, никогда, но чем удивительны именно девяностые – у них до сих пор нет сколько-нибудь влиятельной группы поддержки, и объединяющим лозунгом стало что-то вроде «девяностые – это другие» (как «ад это другие»), то есть для каждого первично именно чужое отношение к этому десятилетию, собственное уходит в тень.
Случайная фраза Наины Ельциной про «святые девяностые» не стала знаменем для ностальгирующих, зато моментально превратилась в мем для отрицающей девяностые стороны – у нас часто бывает, что самые ходовые политические идиомы употребляют только со злым сарказмом («кровавый режим», «наши западные партнеры», «хотите, как на Украине?» и т. п.), и «святые девяностые» – в том же ряду: эти слова несопоставимо чаще произносит не завсегдатай «Ельцин-центра», а просоветский камрад, который ничего не забудет и не простит, или нынешний лоялист, ценящий существующие порядки именно на контрасте с девяностыми.
Но и они, отрицатели, предпочтут ироническое «святые», а не серьезное «хорошо, что девяностые прошли», потому что и здесь более органичен злой сарказм – высказывание о том, что девяностые, слава богу, ушли и не вернутся, более типично для иронизирующего блогера-либерала, который этим «слава богу» прокомментирует очередную перестрелку в Москве, или заказное убийство, или проявление народной нищеты.
Политическая ностальгия по девяностым проходит по категории «юмор» – даже если ты всерьез воспринимаешь октябрь 1993-го как положительный эпизод истории (разгром советских реваншистов, победа демократии), заявить об этом лучше посредством демотиватора «Спасибо деду за победу» с Ельциным – любое неироничное и развернутое объяснение непременно зазвучит фальшиво и само сдаст тебя с потрохами. Поэтому – лучше шутить, это не так обязывает; собственно, девяностые такая вещь, за которую меньше всего хочется нести ответственность, кем бы ты ни был – демократом первой волны или красно-коричневым, новым русским или не вписавшимся в рынок.
Или ребенком – и это еще один динамический процесс: прямо сейчас поколение действовавших лиц эпохи уходит в возрастную категорию 70+, а нынешние тридцати-сорокалетние, те, чьим голосом сегодня говорит Россия (медиа, масскульт, политика и даже отчасти уже и власть, которая у нас традиционно старше общества), в девяностые были именно детьми, а от детей история ждет, по крайней мере, первого подхода к переосмыслению, пусть и отягощенному пока и наследственными связями по семейной или учительской линии, и нынешними стереотипами, за каждым из которых прячется заинтересованная группа взрослых современников, и много чем еще, но сама по себе смена поколений благотворна для переосмысления – сын октябрьского танкиста из 1993-го может даже разделять отцовское отношение к Белому дому, но просыпаться ночами от флэшбеков или заливать их водкой уже не станет, «ничего личного». Точно так же и внук русских беженцев из Таджикистана, пусть он и сохранит переданное ему по наследству отношение к таджикам, всерьез страдать о своей судьбе будет вряд ли – поколенчески он уже не оттуда, и «геополитическая катастрофа», «разделенный народ» для него теперь цитата из актуальной пропаганды, не более.
Читать дальше