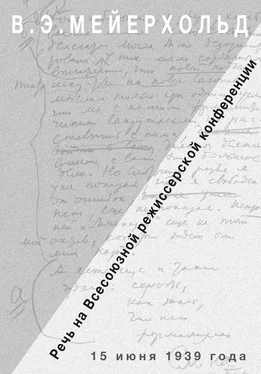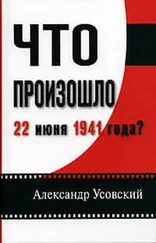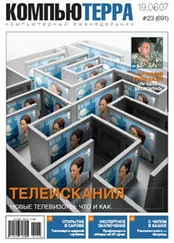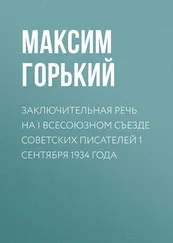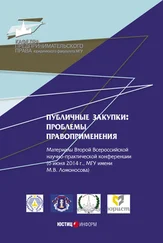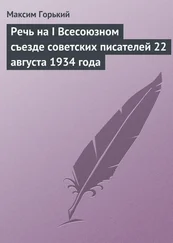Мейерхольд имел в виду беседу И. В. Сталина и В. М. Молотова 17 января 1936 года с автором оперы «Тихий Дон» И. И. Дзержинским, дирижёром С. А. Самосудом и режиссёром М. А. Терешковичем после последнего из гастрольных спектаклей ленинградского Малого оперного театра в Москве. Об этой беседе «Правда» сообщила 20 января 1936 года, за неделю до появления на её страницах редакционной статьи «Сумбур вместо музыки».
На партсобрании ГосТИМа «По вопросу о дискуссии на музыкальном фронте» 25 февраля 1936 года Мейерхольд говорил: «Когда товарищ Сталин смотрел “Тихий Дон”, он, беседуя с Самосудом и другими творцами этого спектакля, сказал: “Да, классика хороша, но нужно нам создать свою советскую классику!” Вы видите, он не сказал: “Давайте брать советскую классику!” – а сказал: “Надо приняться за создание советской классики”» (РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед. хр.678, л.9).
А. Н. Толстой появился «на горизонте» у Мейерхольда недели через две после закрытия ГосТИМа «с разговорами о постановке “Декабристов” Шапорина в Ленинграде»; Толстой работал тогда над либретто этой оперы. Тогда же возник слух, что Мейерхольду «дадут ставить оперы» (Дневник Е. С. Булгаковой. М.,1990, с.181).
См.: Февральский А. В. Записки ровесника века. М.,1976, с.300.
Б. И. Равенских (он по рекомендации Мейерхольда в 1938 г. после закрытия ГосТИМа был принят в студию Станиславского) рассказывал, вспоминая о Мейерхольде, что в тот период «во МХАТе думали пригласить его ставить “Гамлета»”». См.: Равенских Б.И . Размышления о Толстом // Классика и современность. Проблемы советской режиссуры 60–70 годов. М.,1987, с.343.
Циркулирование подобных слухов среди молодёжи студии безусловно связано с позицией, которую занимало по отношению к Мейерхольду Станиславский. Возможно, слух был вызван лишь тем, что в начале 1938 года Мейерхольд присутствовал в студии «на занятиях по “ Гамлету”» (см.: Кристи Г.В . Возвращение к Станиславскому // Встречи с Мейерхольдом. М.,1967, с.582).
См.: Переписка Бориса Пастернака. М.,1990, с.166.
См.: Февральский А.В . Записки ровесника века. М.,1976, с.300.
См.: Филиппов Б. М. Записки домового. М.,1978, с.311; Золотницкий Д.И . Мейерхольд. Роман с советской властью. М.,1999, с.314.
В обзоре «О смелости подлинной и мнимой. Обсуждение статьи Н. Вирты в Ленинграде» ( Литературная газета , 1939, 26 апреля) сообщалось:
«На днях Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества и драматическая секция ленинградского ССП провели обсуждение вопросов, связанных со “ смелостью подлинной и мнимой” в театре и драматургии. Председательствовал на собрании народный артист РСФСР Вс. Мейерхольд. ‹…›
Большую речь произнёс Вс. Мейерхольд.
– Драматурги, – говорит он, – приносят сейчас в театр не пьесы, а сырьё. “Зачем я буду приводить пьесу в образцовый вид, – рассуждают они, – если местный репертком, Главрепертком, Управление по делам искусств – любая из этих инстанций – будут пьесу поправлять”. И драматург лишь приблизительно намечает своё произведение. Оно в окончательном виде приходит, наконец, к режиссёру и тот… начинает переделывать пьесу!..
Говоря о смелости художника, о новаторстве, Вс. Мейерхольд называет кинокартину А. Довженко “Щорс”. Довженко, – говорит Вс. Мейерхольд, – писатель, поэт, художник, воин, который борется за новую социалистическую культуру.
– Мы много говорим об оборонной тематике в драматургии. Но некоторые товарищи полагают, что, показав на сцене пограничников, они решают проблему оборонной пьесы. Есть ли у нас пьесы, в которых выражен тот величественный пафос, который мы ощущаем в довженковском “Щорсе”, пьесы, которые, подобно “Щорсу”, звали бы нас идти в грядущие бои бесстрашно, с гордыми лицами.
Вс. Мейерхольд, останавливаясь затем на вопросах учебы драматурга, считает необходимым постоянное творческое общение драматургов и режиссёров».
Ленинградский журнал «Искусство и жизнь» в статье «Дневник художественной жизни» (1939, № 5, с.4; подпись: Обозреватель ) также изложил это выступление Мейерхольда:
«В силу той системы, которая здесь была раскритикована, в силу того, что драматурги должны были проходить через различные мытарства, они несут в театр сырьё. Они считают: ну зачем же дорабатывать пьесу, зачем шесть лишних месяцев посвящать на то, чтобы приводить её в идеальный, образцовый порядок, когда всё равно нужно будет пройти десятки инстанций, и везде пьесу будут подвергать всевозможным изменениям. Драматург думает: я приблизительно намечу ситуацию, намечу сюжет, замаскирую все обстоятельства, а потом уже дойду до конца. Когда, наконец, пьеса будет принята, начнутся новые мытарства, потому что режиссёр всё же недоволен и говорит: “Ну, теперь я этой пьесой займусь”. Я сам был таким режиссёром. Совершенно правильно то, что драматурги должны создавать такие произведения, в которых они могли бы защищать каждое слово. Так работал Довженко, который на протяжении трёх лет везде дрался за своего “ Щорса”. Когда Довженко говорили: “Позвольте, вы дали фильм о Щорсе, а он у вас не умирает в финале”, – Довженко отвечал: “И не умрёт, останется в живых!” Довженко имеет своё лицо, свою походку, своё художественное творчество. Довженко не только кинематографический режиссёр, но он и писатель. Довженко – поэт, Довженко – охотник, Довженко – воин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу