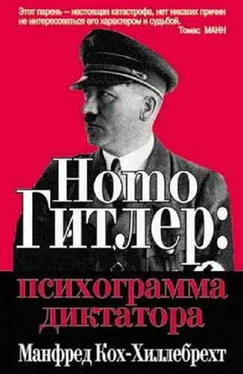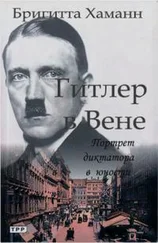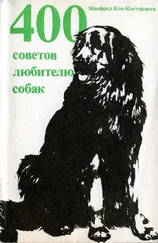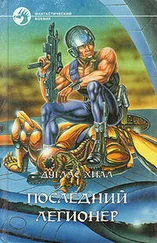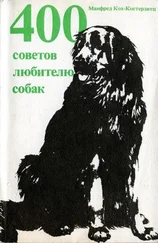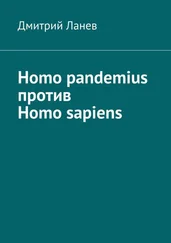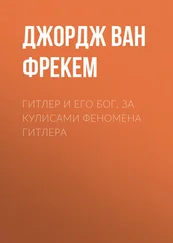Неудачное покушение Эльзера на фюрера 11 ноября 1939 года Гитлер использовал как повод для организации пышной траурной церемонии перед Фельдхеррнхале в честь жертв взрыва. Гитлер «с черным крапом на левом рукаве пальто возложил венки к гробам, после чего постоял перед ними несколько минут в полном молчании».[117]
С 1941 года война периодически предоставляла возможность устраивать торжественные траурные церемонии, каковыми стали похороны погибших асов люфтваффе Эрнста Удета и Вернера Мельдера. 12 февраля 1942 года в Мозаичном зале рейхсканцелярии состоялось поминовение погибшего в катастрофе рейхсминистра Тодта. Гитлер лично произнес речь и несколько раз прерывался от волнения.[118] 21 мая 1942 года фюрер принял участие в похоронах в Берлине гауляйтера Карла Ревера, использовав их как очередной повод для театрального представления в своем духе: «Гитлер прошел по проходу, остановился перед гробом, вскинул в приветствии руку, после чего участливо пожат руки присутствовавшим».[119] 9 июля того же года в Мозаичном зале рейхсканцелярии вновь была организована траурная церемония, на этот раз хоронили Рейнхарда Гейдриха. 7 мая 1943 года подобной посмертной чести удостоился Виктор Люце. 17 апреля 1944 года Гитлер посетил похороны гауляйтера Вагрена, состоявшиеся в Мюнхене. Последней публичной траурной церемонией, в которой принял участие фюрер, стало погребение генерал-полковника Дитля 1 июля 1944 года.
Для своего последнего траурного мероприятия в бункере под рейхсканцелярией Адольф Гитлер специально подобрал зрителей: он вызвал в Берлин генерал-полковника фон Грайма и его личного пилота Ханну Райч. Он разыграл перед обоими сцену «крайней озабоченности изменой» Геринга, который направил по кабелю сообщение, что принимает на себя всю полноту власти, поскольку окруженный в столице фюрер более не способен управлять страной. Первая реакция Гитлера была довольно спокойной: «По-моему, он вполне может вести переговоры о капитуляции. В принципе все равно, кто этим займется». Однако затем он решит использовать «ультиматум» Геринга, чтобы устроить свое последнее представление.
На допросе у офицеров союзников Ханна Райч подробно описала эту сцену: «Его голова была опущена вниз, лицо мертвенно бледно, когда он передавал телеграмму Грайму, его руки дрожали. По мере чтения генералом телеграммы лицо фюрера оставалось каменным. Затем каждый мускул его задрожал, дыхание участилось, и Гитлер, полностью потеряв над собой контроль, начал кричать: "Ультиматум! Резкий ультиматум! Теперь ничего не осталось. У меня больше нет ничего. Нет больше ни чести, ни верности, я пережил все возможные разочарования и измену. Все бросили меня! Не осталось ни одной несправедливости, которую бы мне не причинили!"» Он в точности повторял жалобы кайзера Франца-Иосифа после смерти императрицы Элизабет: «У меня больше нет ничего».
Ева Браун стала последней, кто еще верил в подлинность чувств фюрера. Она «мужественно смирилась» с собственной участью, «но до конца волновалась за Гитлера, и на нее действовали его маленькие спектакли. В последние дни она постоянно повторяла: "Бедный, бедный Адольф, все бросили тебя, все предали тебя"».[120]
Отсутствие стимулов и вера в собственную избранность
Лурия отметит, что уход Шерешевского от реальности в мир фантазии имел два серьезных последствия: у пациента пропали привычные социальные стимулы и появилась вера в чудо: «Уже в возрасте 18 лет мне было непонятно, как мои товарищи могут готовить себя к тому, чтобы стать бухгалтером или коммивояжером. Самым важным в жизни является вовсе не профессия, а то великое событие, которое определит мою жизнь».[121] Сходным же образом думал и Адольф Гитлер, который верил в свое историческое предназначение, великое чудо, чудо-оружие, коренную перемену вплоть до самого самоубийства. Тем не менее в его разговорах постоянно всплывала тема отсутствия каких-либо стимулов к чему-либо. Всю свою юность и ранние годы зрелости Гитлер провел один на один с чувством полного собственного бессилия.
«В своих речах… он снова и снова возвращался к рассказам о том, насколько тяжелой была его юность и как счастлива и благодарна должна быть нынешняя молодежь за то, что он предоставил ей».[122] Несмотря на мнение учителей реальной школы и профессоров Академии искусства, он смог сохранить веру в свою гениальность. Его речи производили огромное впечатление на бездомных соседей по венской ночлежке и товарищей на фронте.
Читать дальше