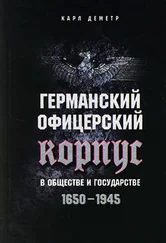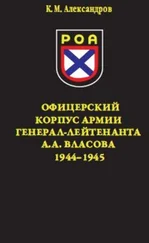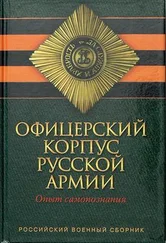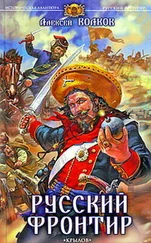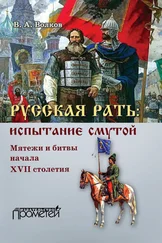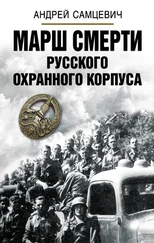В связи с чрезмерно большим пополнением дворянства со стороны было решено ограничить доступ в высшее сословие, и манифестом 11 июня 1845 г. класс чинов, дающих право на потомственное дворянство, был повышен. Надо сказать, что Николай I долго колебался в этом вопросе именно потому, что усматривал здесь ущемление прав военных, которых он всегда любил и считал «своими». Отныне потомственное дворянство на военной службе приносил первый штаб–офицерский чин (майора — VIII класса), а на гражданской — чин статского советника (V класса), а личное дворянство — чины с XIV по IX и гражданские чины с IX по VI класс (более низкие чины давали почетное гражданство){64}. Тогда же было установлено, что орден Св. Анны (младший орден в системе наград) дает потомственное дворянство только по своей 1–й степени; в I855 г. то же было сделано в отношении ордена Св. Станислава.
В 1856 г. класс чинов, приносящих потомственное дворянство, был поднят на военной службе до VI (полковник) и на гражданской — до IV (действительный статский советник); для получения личного дворянства условия не изменились — его давали все офицерские чины и гражданские чины с IX класса{65}. Такой порядок получения дворянства по чинам сохранился до 1917 г.
Несмотря на эти ограничения, нетрудно заметить, что, во–первых, для офицеров по–прежнему сохранилось большое преимущество в чинах при получении потомственного дворянства перед гражданскими чиновниками, а во–вторых (и это самое главное), если на гражданской службе чины ниже IX класса не давали после 1845 г. и личного дворянства, то для офицеров даже самый младший чин по–прежнему был связан с получением дворянства (хотя бы и личного). То есть принцип, согласно которому сама профессия офицера обеспечивала ему принадлежность к высшему сословию, не был поколеблен, в чем находило свое выражение представление о значимости и статусе военной службы.
Что касается орденов, то ордена Св. Георгия и Св. Владимира (нее степени которых давали право на потомственное дворянство) в 1859 г. были изъяты из общей постепенности наград (о чем пойдет речь ниже), жаловались только по усмотрению верховной власти, указом от 16 августа 1887 г. было установлено, что для получения ордена Владимира 4–й степени необходимо прослужить в офицерских чинах беспорочно 20 лет, а в 1892 г. орден был введен в общую постепенность наград и для получения его 4–й степени требовалось 15 лет беспорочной офицерской службы. Указ от 28 мая 1900 г. отменил право получения потомственного дворянства по ордену Владимира 4–й степени, и так как этим орденом 3–й степени могли награждаться офицеры в чине не ниже полковника (и без того имеющие право на потомственное дворянство), то возможность получения офицерами потомственного дворянства не по чину, а по ордену осталась лишь за георгиевскими кавалерами (ибо ордена Анны и С'танислава 1–й степени офицеры ниже полковника также не могли получить).
Поскольку дети майоров и подполковников после 1856 г. не становились потомственными дворянами, то они образовали особое сословие «штаб–офицерских детей», к которому относились и дети полковников, рожденные до получения их отцами этого чина, пока с 4 апреля 1874 г. в потомственное дворянство не начали возводить всех детей лица, имевшего на это право, независимо от времени их рождения.
В целом приобретение дворянства на службе в России XVIII — XIX вв. носило чрезвычайно широкий характер. К началу XX в. дворянские роды, могущие доказать свою принадлежность к дворянству до 1685 г. (записывавшиеся в 6–ю часть губернских родословных книг), составляли 26–27% всех внесенных в родословные книги родов. Если же учесть, что очень многие лица, получившие право на потомственное дворянство и не имевшие недвижимости, в губернские книги не записывались (это само по себе не давало никаких преимуществ), то можно считать, что до 90% из имевшихся к концу XIX — началу XX в. дворянских родов возникли в XVIII–XIX вв. в результате службы.
Из них большую часть составляли те, чьи предки получили дворянство по офицерскому чину: во 2–ю часть родословных книг, куда описывались роды, получившие дворянство на военной службе, было в среднем занесено около 34% всех родов, а в 3–ю часть, куда описывались роды, получившие дворянство на гражданской службе, — примерно 28%. Если же учесть, что часть родов офицерского происхождения заносилась и в другие части родословных книг (в 1–ю — дворянство, жалованное непосредственно монархом, и в 5–ю — титулованные роды), то в составе родов, внесенных в губернские родословные книги, за вычетом 6–й части, они составляли более половины. Вообще 2–я часть родословных книг была наиболее многочисленной — в среднем 33,7%, тогда как 1–я — 9,8%, 3–я — 28,2%, 4–я (иностранные роды) — 0,6%, 5–я — 1,7%, 6–я–26,8%{66}.
Читать дальше