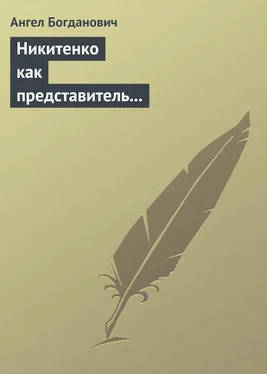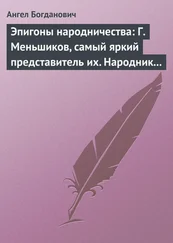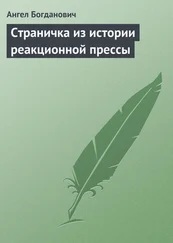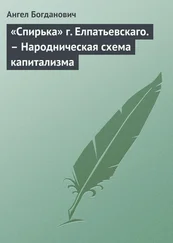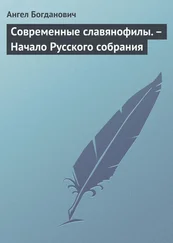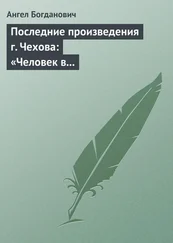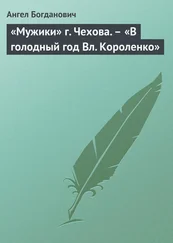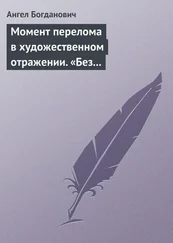Тотъ же мотивъ звучитъ у него постоянно, когда ему приходится принимать участіе въ дѣлахъ, плохо примиряющихся съ его «направленіемъ», если только это слово примѣнимо къ людямъ этого типа. Такъ, когда въ 1857 г. былъ образованъ знаменитый «негласный комитетъ» надъ печатью и надъ самой цензурой, Никитенко сначала страшно возмущается. Но вотъ его самого приглашаютъ въ члены комитета, и Никитенко моментально воодушевляется «примирительными соображеніями». «Жребій брошенъ, – восклицаетъ торжественно новый Юлій Цезарь отъ цензуры. – Я на новомъ поприщѣ общественной дѣятельности. Трудности тутъ будутъ – и трудности значительные. Но нехорошо, нечестно было бы, избѣгая ихъ, отказываться дѣйствовать. Много будетъ толковъ. Возможно, что многіе станутъ меня упрекать за то, что я рѣшился съ моимъ чистымъ именемъ засѣдать въ трибуналѣ, который признается гасительнымъ, но въ томъ-то и дѣло, господа, что я хочу парализовать его гасительныя вожделѣнія». Впрочемъ, когда «гасительныя» свойства комитета оказались неугасимыми, Никитенко ушелъ. Тѣми же соображеніями руководствуется Никитенко, принимая на себя порученіи выработать новый цензурный уставъ, стать во главѣ оффиціальной газеты Валуева, словомъ, принимая всякія порученія, отъ которыхъ его нѣсколько мутитъ. Въ концѣ концовъ, получается общее неудовольствіе. Изъ примирительныхъ намѣреній Никитенки ничего не выходитъ въ комитетѣ, его цензурный уставъ такъ передѣлывается «умѣлой рукой бюрократа, посѣдѣвшаго въ канцелярскихъ бояхъ», что самъ Никитенко въ уныломъ недоумѣніи вопрошаетъ: «Мой уставъ… Да развѣ отъ него что осталось?» Увы, какъ оказывается дальше – осталось, именно всѣ мѣры «строгости и пресѣченія», которыя въ первой редакціи умѣрялись и уравновѣшивались «правами и вольностями». Никитенко, такимъ образомъ, только сыгралъ въ руку «посѣдѣлому бюрократу», уяснивъ ему первое и внушивъ понятное отвращеніе къ послѣднему.
Но обыватель никогда не унываетъ и не теряетъ надежды. Въ этомъ его сила и слабость. Безъ надежды онъ бы зачахъ и увялъ, тина жизни засосала бы его окончательно. Благодаря надеждамъ, онъ какъ ни какъ, все же барахтается, и хотя ничего, кромѣ пузырей, не появляется на поверхности, тѣмъ не менѣе, онъ снова и снова, съ видомъ все того же Юлія Цезаря, стремящагося за Рубиконъ, восклицаетъ въ концѣ 1861 года: «Итакъ, жребій брошенъ. Я становлюсь редакторомъ этой («Сѣверной Почты», оффиціальное изданіе Валуева) газеты и, наконецъ, попытаюсь осуществить мою завѣтную мысль о проведенія въ обществѣ примирительныхъ началъ» (стр. 290, т. II). А въ іюнѣ 1862 г., т. е. спустя полгода, Никитенко не безъ юмора философствуетъ: «Ну, право же, главный редакторъ оффиціальной газеты сильно смахиваетъ на каторжника. Онъ отвѣчаетъ за каждую букву, за каждую запятую, которыя поставлены или выпущены. Пока не вышелъ номеръ, онъ въ тревогѣ; вышелъ номеръ – онъ еще въ большей тревогѣ. Тамъ можетъ быть сдѣлана ошибка, здѣсь она уже сдѣлана и поправить ее нельзя. Публика недовольна тѣмъ, что номеръ не весь по ея вкусу; начальство тѣмъ, что вы литераторъ, а не чиновникъ. Словомъ, надо имѣть большой запасъ мужества и еще большій той философіи, которая учитъ многое презирать» (стр. 338, т. II), – и 30 іюня слагаетъ съ себя обязанности редактора, ибо «министръ желаетъ дать такой оборотъ газетѣ, что мнѣ рѣшительно въ ней нечего дѣлать».
Такой неглубокой обывательской философіей проникнута вся оффиціальная и оффиціозная дѣятельности Никитенки. Ее же онъ разводитъ и въ своемъ дневникѣ, какъ только рѣчь заходитъ объ обществѣ, государствѣ, администраціи. Ему ни разу не приходитъ въ голову, что самостоятельность, которую онъ лелѣетъ въ душѣ, какъ чудный идеалъ, не есть нѣчто, лежащее въ душѣ человѣка, а всецѣло зависитъ отъ внѣшнихъ условій его жизни. Цѣлыя страницы онъ посвящаетъ глубокомысленнымъ разсужденіямъ о такомъ строѣ администраціи, при которомъ чиновникъ былъ-бы самостоятеленъ, не замѣчая, что этимъ въ корень подрывается основной принципъ бюрократіи – исполнительность. И когда другіе начинаютъ разсуждать именно самостоятельно, онъ злится, брюзжитъ и разноситъ и литературу, и молодежь, даже книги, «которыя пріучаютъ человѣка думать по готовымъ образцамъ». Онъ упрекаетъ либераловъ шестидесятыхъ годовъ въ недальновидности, въ излишней требовательности, поспѣшности, въ отсутствіи «государственныхъ способностей». Каковъ его «государственный умъ», показываетъ его отношеніе къ переходу цензурнаго комитета изъ министерства народнаго просвѣщенія въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ возмущается и пишетъ: «Дѣло въ томъ, что оторванная отъ министерства народнаго просвѣщенія цензура сдѣлается добычею всякаго искателя власти и вліянія… Тогда, что добраго, цензура, пожалуй, угодитъ и въ III-въ отдѣленіе» (стр. 170, т. II). Онъ совершенно забываетъ, что самъ, въ теченіе 30 лѣтъ, испыталъ и на себѣ, и на примѣрѣ другихъ видѣлъ, какъ та же цензура при министерствѣ народнаго просвѣщенія была постоянно «добычею» не только «всякаго искателя власти и вліянія», а рѣшительно всѣхъ, начиная съ Уварова и до какой-то пѣвицы Ассандри, которая «настолько же худо пѣла, насколько была прекрасна»(стр. 456, т. I), что «съ цензорами обращались тогда, какъ съ мальчишками или безбородыми прапорщиками, и сажали подъ арестъ за пустяки, не стоющіе вниманія» (стр. 437, т. I).
Читать дальше