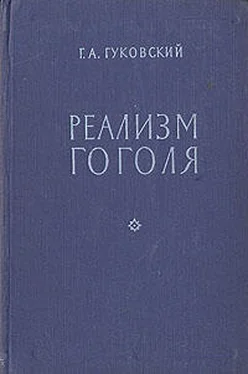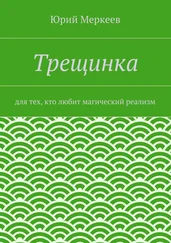Антибуржуазности, то есть негативному пафосу западного реализма, не имевшего прочной социальной базы для оформления своего потенциального демократизма-коллективизма, противостоял реализм русский, обретший такую базу в русском народе, то есть в стихии крестьянского демократизма. Отсюда метания и срывы позитивного мировоззрения реализма на Западе – от Бальзака до Флобера и позднее. Отсюда народно-демократическая проповедь, убежденность, позитивное знание в русской литературе XIX столетия – от теоретически-рациональных построений Пушкина через органически-стихийный демократизм Гоголя к завершенному мировоззрению русской демократии у Белинского 1840-х годов – и далее к Чернышевскому. Король-груша Луи-Филипп и московские купцы продемонстрировали русским передовым людям воочию ужас и тупик буржуазного благополучия. Крестьянская, народная Россия подсказала им пути поисков и выхода – не в утопические католические салоны, рисовавшиеся воображению Бальзака, не в башню из слоновой кости Флобера и не в трагический скепсис Мопассана, а в положительный идеал народной активности, духовной и общественной.
У порога этого движения опять стоит Пушкин – и Пушкин, вновь мучительно думающий о судьбах восстаний, о капитализме, о народе, о России и ее будущем. Но с 1831 года рядом с Пушкиным стоит юноша-Гоголь. Ему и было суждено возглавить целый период русского реализма.
2
Творчество великого писателя в своем развитии, в своей эволюции, даже в своих переломах и – нередко – радикальных изменениях являет, тем не менее, некое действительное единство, динамическое и диалектическое, но все же законченное и замкнутое. Это – единство идейного и творческого пути, единство, не разрушаемое отказами поэта от прежних и достигнутых уже решений, единство внутренней закономерности самого развития поэта, образующее в совокупности его произведений то «нечто», что отличает одного писателя от всех других, даже его современников, как бы близки ему – идейно и стилистически – они ни были.
Это – не просто биографическое единство жизни человека, хотя единство творчества не может быть отрешено от исторического смысла личности автора; это и не просто повторяемость навыков стиля, общность речевых привычек или даже общность некоторых признаков мировоззрения, часто сохранных при всех сменах вех, через которые мог пройти писатель. Это – внутреннее и глубоко идейное единство истории, воплощенное в сумме произведений, объективно превратившейся – в общественном своем бытии и функционировании – в систему произведений, в некое новое и грандиозное произведение искусства, объемлющее все частные, отдельные и вполне завершенные произведения поэта.
Это объемлющее произведение-систему несет в своей памяти, в душе и воображении каждый читатель, каждый человек: Оно имеет и название. Это название – имя: Гоголь, Тургенев, Чехов – или Некрасов, Фет, Блок. Мы связываем с каждым из этих имен вовсе не только представление об авторе-человеке, но и твердое и отчетливое (хотя, может быть, и различное у разных читателей) представление о творческом облике, тональности, художественных эмоциях, об особом мире идей и образов, вполне едином и замкнутом.
Мы и говорим: читаю или читал Тургенева или Чехова – и это значит не совсем то же, что: читаю «Рудина» или «Иванова»; то есть второе значит: вбираю в себя образно-идейную систему, заключенную в данном романе или драме; первое же значит: вбираю в себя образно-идейную систему, связанную для меня с именем поэта, – хотя бы это было через посредство того же романа или драмы.
Что это так, можно проверить таким фактом. Часто бывает, что мы думаем и даже говорим, рассуждаем о писателе, поэте – и делаем это с достаточным правом, хотя отчетливо помним далеко не все его произведения, иной раз лишь незначительную часть их. Скажем, читатели беседуют о Фете; каждый из них читал Фета, читал много его стихотворений, но ясно и «отдельно» он помнит, может быть, три-четыре из них. И все же он знает, о чем он говорит. Он говорит о Фете , то есть о всей системе единства творчества поэта, и в его воображении – тот особый мир, или, вернее, тот особый аспект мира, самой действительности, который воплощен идейной активностью поэта в совокупности его произведений. И когда мы слышим формулы: «Золя – прекрасный писатель, но я не люблю Золя», это значит, что говорящий хочет сказать не то, что ему не нравится тот или иной роман писателя (он может вовсе и не мыслить при этом никакого отдельного романа), а то, что ему чужд тот общий и единый образ, имя которому – даже не «Собрание сочинений Золя», а именно только: Золя.
Читать дальше