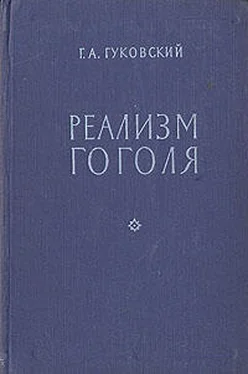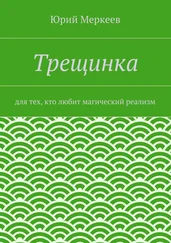Дело здесь было в существе самого движения литературы, в существе не только первого этапа реализма, но и последующих за ним этапов его, в существе реализма XIX столетия, так называемого критического реализма, в его основных, стилеобразующих и типических, проявлениях. Достаточно указать на то обстоятельство, что связи с романтизмом, заметные в творчестве Пушкина даже в 30-е годы, еще более ярко выступают в творчестве других, притом самых передовых и великих писателей этого же времени, в свою очередь извлекших свои реалистические концепции искусства из своего же собственного романтического опыта, – в творчестве Гоголя и Лермонтова. И даже сам создатель теоретической системы русского реализма, Белинский, не только начал с романтических концепций, но и не счел необходимым совсем отказаться от них даже в период «Отечественных записок». Поэтому-то мы и встретимся опять и у позднего Лермонтова и у зрелого Гоголя с целой галереей героев-романтиков, – среди которых и Печорин, и Пискарев, и другие, – поэтому-то и сам Белинский почти до конца дней своих писал страстным, «субъективным», напряженным слогом романтического бунтаря. Между тем все это не дает нам права не только приравнивать реализм к романтизму (как это делают некоторые западные ученые, объявляющие, например, Флобера романтиком потому, что Эмма Бовари – романтическая женщина), но и нивелировать различные последовательные этапы развития реализма. Различение есть всегда сопоставление, и наоборот. Устанавливая связи и сближения, устанавливая наличие преемства стиля, мы не можем не видеть существенного отличия русского реализма 1830-х годов, создававшегося общими усилиями и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, от реализма 1820-х годов, созданного в основном усилием творческого гения Пушкина, и только его.
Это и дает нам право в основном выделить 1830-е годы в качестве особого, условно отделенного от других, смежных, объекта изучения в общем плане изучения истории русского реализма. Разумеется, здесь суть дела заключена не в цифровых гранях десятилетия – от 1831 года до 1840-го; да и вообще грани периодов такого рода не точны, не могут быть датированы вполне определенно. «Сороковые годы» начинаются в истории русской литературы, в истории этапного развития русского реализма не 1 января 1841 года, а несколько позднее, после гибели Лермонтова, после выхода в свет первого тома «Мертвых душ» и издания сочинений Гоголя, начинаются вместе с формированием «натуральной школы», с выходом на литературную арену и созреванием целой плеяды новых литераторов, будущих деятелей литературного процесса: здесь и осознавший свой путь Некрасов, и Достоевский, и Фет, и Тургенев, и Григорович, и Аполлон Григорьев, и многие другие. Сороковые годы освещены и обоснованы как историко-литературное понятие последним, материалистическим, социалистическим, историко-социологическим и революционным, периодом идейного развития Белинского.
Но ведь и «шестидесятые годы» – это вовсе не просто годы с 1861 до 1870-го, а начинаются они едва ли не с середины «хронологических» 1850-х годов, вместе с выходом на передовую линию огня Чернышевского и Добролюбова. Это значит, что, говоря о «сороковых годах», как и о «шестидесятых годах», в истории литературы, мы имеем фактически в виду не хронологическое обозначение, а определенный историко-литературный, – а за ним и вообще историко-культурный и вообще исторический, – комплекс, определенный и закономерный момент закономерного развития литературы (культуры, общества). Только робостью, или, если угодно, осторожностью, нашей науки, упорным нежеланием «схематизировать», опасением строить гипотезы, самостоятельно и исторически классифицировать материал в терминах своей, литературной, науки, можно объяснить то обстоятельство, что мы принуждены до сих пор пользоваться этими неточными, внутренне бессодержательными и непринципиальными обозначениями периодов нашего литературного процесса – по десятилетиям, и не имеем другой, собственно литературной, терминологии в этом вопросе.
Конечно, все это относится и к «тридцатым годам». Конечно, понятие: «реализм тридцатых годов» – довольно нелепое и, в сущности, пустое; реализм того или иного качества не определяется цифрами, даже цифрами исторической хронологии, а определяется признаками обосновывающего его и осуществленного в нем мировоззрения, признаками диалектически раскрывающейся в нем истины на данном этапе общественного бытия человечества. Все это так, – а все же, пока мы не построили своей научной теории истории литературного процесса, пока не уяснили весь пестрый и живой процесс литературы прошлого с помощью пресловутой «схемы», пока эта «схема» не дала нам терминологии, приходится ограничиваться условными хронологическими знаками. Ведь они не противоречат истине, фактам, действительности; они, правда, не выражают ее, но они указывают на нее, донаучно, примитивно, но в общем верно. Указать перстом на розу и на шиповник и назвать их – это еще не научная классификация. Но это уже различение, нужное для научной классификации. Ограничимся на первый случай, для начала разговора, таким указанием перстом.
Читать дальше