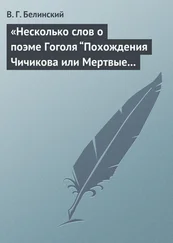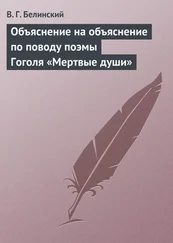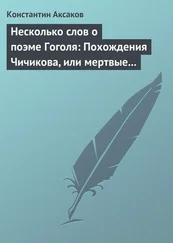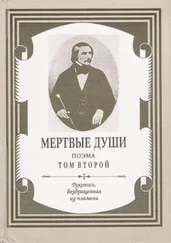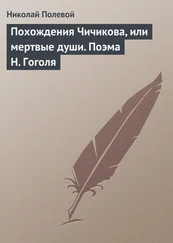Образ масленицы – это тот углубляющий смысл поэмы символ, который не называется в тексте, но складывается в сознании читателя «Мертвых душ» из соответствующего набора представлений, возникающих ассоциативным путем. Нужно сказать, что вначале тема карнавала присутствовала в поэме открыто, причем выражалась она в образах, несущих в себе элемент назидательности, правда, введенный достаточно осторожно. Эта тема возникала в кульминационный момент чичиковской авантюры – после разоблачающих слов Ноздрева на балу. Описывая эпизод, так сильно подействовавший на его героя, Гоголь хотел заставить одновременно задуматься и читателя и ввел в свой текст развернутое сравнение, приоткрывающее моралистическую мысль автора: «… все остановилось невольно с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением в лице, какое видится только на карнавальных масках, в то время когда молодежь, скрывшаяся под ними, раз в год хочет безотчетно завеселиться, закружиться и потеряться в беспричинном весельи, избегая и страшась всякого вопроса, а неподвижно несясь , маски на их лицах, озаренных движением, как будто смотрят каким-то восклицательным знаком и вопрошают, к чему это, на что это» (VI, 484).
В окончательном тексте Гоголь более тщательно «зашифровал» образы этого ряда, теснее сплетя их с сюжетом, однако при внимательном чтении их все же можно обнаружить. Так, русская масленица немыслима без фигуры медведя – либо настоящего, обученного разным «штукам» (с таким медведем Гоголь сравнивает Собакевича), либо ряженого медведем. Как вводит его в свой текст Гоголь? Помимо упомянутого только что сравнения, можно сказать, что вся посвященная Собакевичу пятая глава поэмы густо пропитана медвежьим запахом. Но Гоголю этого мало. Он хочет расширить сферу действия названного символа, бросить его тень и на других персонажей. Так возникает «шинель на медведях», в которую на одном из этапов создания «Мертвых душ» он одевает Чичикова. Зимняя шинель вносит диссонанс в описание сцены, где говорится, что «из окон второго и третьего этажа иногда высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды» (VI, 141), другими словами, температура на улице такова, что в домах открыты окна. Гоголь пытается устранить противоречие: «Набросил шинель на медведях, не затем, чтобы на дворе было холодно, но чтобы внушить должный страх канцелярской мелюзге» (VI, 599). Чувствует неубедительность этих аргументов – и что же, отказывается от своей идеи? – Совсем напротив. Объяснения вовсе отбрасываются (видимо, чтобы не акцентировать создавшейся несообразности), и появляется новый текст: «Не успел он выйти на улицу <���…> таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как <���…> столкнулся с господином тоже в медведях…» (VI, 140). Преимущество нового варианта в том, что медведь здесь более, так сказать, персонифицирован, приближен (хотя всего лишь грамматическим путем) к образу, который необходимо вызвать в сознании читателя.
В такой «технике» и нарисована Гоголем картина широкой русской масленицы – картина и видимая и невидимая в одно и то же время. В ней не упущена ни одна сколько-нибудь существенная деталь, без которой эта картина была бы недостаточно узнаваема.
Мы уже упоминали о чертах марионеточности, присущих героям «Мертвых душ». Создающаяся благодаря им иллюзия кукольного театра подкреплена в поэме авторским напоминанием о главном герое народных кукольных представлений. Обратим внимание на то, как настойчиво подчеркивает Гоголь одну из деталей внешности чичиковского лакея. В первой главе поэмы говорится, что это был «малый немного суровый на взгляд с очень крупными губами и носом» (VI, 8). Во второй – «имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы» (VI, 19–20). Последняя фраза звучит двусмысленно. Ее можно истолковать как утверждение, что крупные черты лица свойственны лакеям, но можно ведь понять и так, что крупный нос – принадлежность лиц, зовущихся Петрушкой. Это и ведет нас к кукольному Петрушке, заимствовавшему свой громадный нос от итальянского Пульчинеллы. «Очень крупный нос» был неотъемлемым атрибутом и «дурацкой персоны» XVIII в. Петрухи Фарноса. «Этот же Фарнос с незапамятных времен поступил и на кукольную сцену под уменьшительным именем Петрушки», – пишет о нем знаток народного изобразительного искусства Д. А. Ровинский. [43] Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 5. С. 270.
Совпадение имени и размеров носа могло бы показаться случайностью (если не знать, что их у Гоголя не бывает), но мрачный слуга Чичикова сам выдает свое происхождение, когда в седьмой главе поэмы он выносит в коридор «панталоны и фрак брусничного цвета с искрой», принадлежащие его хозяину, и, «растопыривши» последний на деревянной вешалке, начинает его «бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор» (VI, 152). То, что Гоголь употребил здесь глагол «бить» и замешал в дело чистки одежды хлыст, позволяет увидеть скрытый смысл всей этой сцены, где одежда не просто замещает своего владельца, но в своем «растопыренном» состоянии буквально воспроизводит технику того «перчаточного» кукольного театра, который представлял собой театр Петрушки. Петрушка же выступает в своем исконном амплуа – героя «комедии палок», отвечая в духе этой комедии на совет своего барина сходить в баню (в балаганно-ярмарочной традиции баня – устойчивый синоним порки). [44] Обширный материал на эту тему можно найти в разделе «Баня», входящем в книгу: Петербургские балаганные прибаутки, записанные В. И. Кельсиевым. М., 1889. С. 15–16.
Читать дальше