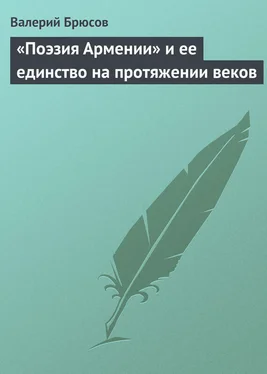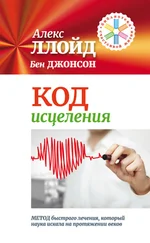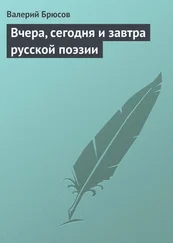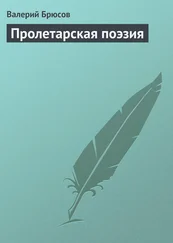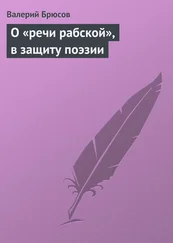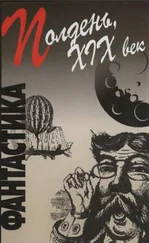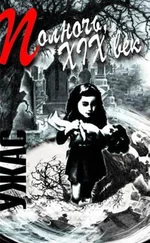Пробел между ранними и позднейшими гимнотворцами заполняют стихотворения, не включенные в «Шаракан», но пользующиеся огромной популярностью среди армян, – Григория Нарекского, автора X в. (951 – 1003 гг.), жившего в царстве Багратидов. Григорий Нарекский, сын выдающегося писателя Хосрова Андзевацийского, автора нескольких богословских трудов, и сам замечательнейший писатель всей своей эпохи, оставил ряд сочинений в прозе: толкования на библейские книги, проповеди и т. д. Но слава Григория Нарекского основывается на сложенных им духовных песнопениях, которые справедливо называются «священными элегиями». До сих пор молитвенник Григория пользуется широким распространением в армянском народе, называясь просто «Нарек». В стихах Григория Нарекского религиозное чувство соединяется с истинным поэтическим вдохновением, и многие аллегорические гимны этого поэта остаются прекрасными, независимо от их богословского толкования. Притом Григорий Нарекский довел до высокого совершенства форму стихов, любовно культивируя «звукопись» задолго до того, как она расцвела в лирике персидской и арабской. В этом отношении стихи Григория Нарекского являются предварением «светской» поэзии средневековья. На современников же Григорий Нарекский оказал сильнейшее влияние, и позднейшие поэты «Шаракана» несомненно вышли из его школы. В нашем собрании поэзия Григория Нарекского представлена двумя стихотворениями.
Из позднейших гимнотворцев «Шаракана» особенно выделяются три поэта: Нерсес Благодатный (f 1173 г.), Нерсес Ламбронский (1153–1198 гг.) и Иоанн Ерзынкайский (1250–1326 гг.). От Нерсеса Благодатного, кроме гимнов, включенных в «Шаракан», дошли до нас и другие поэтические создания: элегии, поэма на взятие Эдессы, стихотворное переложение Евангелия, а также сочинения прозаические. Потомок Аршакидов, впоследствии католикос, Нерсес Благодатный – один из замечательнейших и плодовитейших писателей Армении и имел огромное влияние на умы своего времени. Поэмы Нерсеса Благодатного все проникнуты истинным одушевлением, местами высоко трогательны и написаны с исключительным мастерством, обличающим большого художника, плененного и техникой своего искусства. Есть у Нерсеса Благодатного стихотворения, где каждый стих (точнее – два стиха полустишия) начинается последовательно с новой буквы алфавита. Такая стихотворная игра не мешает свободе и чистоте вдохновений поэта. В элегии на взятие Эдессы около 4000 стихов написано на одну рифму, но рассказ остается живым и в речи поэта не чувствуется никакого затруднения. Рассказывают, что многие стихотворения Нерсеса Благодатного (получившего свое прозвище столь же за кротость характеры, как за «благодатное» изящество стиля) – импровизации, плоды бессонной ночи, когда поэт в порыве одушевления творил одновременно и текст и напев, слова и музыку. А. Чобаниан справедливо называет Нерсеса Благодатного «одним из величайших поэтов церкви», и параллель его гимнам приходится искать в XIX в. у Верлена, в его книге «Sagesse». В нашем сборнике Нерсес Благодатный представлен переводом нескольких лирических гимнов и отрывков из элегии на взятие Эдессы.
Нерсес Ламбронский, живший в Киликийском царстве, был один из образованнейших людей всей своей эпохи (XII в.). Он также оставил много сочинений, о которых современные ему европейские авторитеты отзывались с величайшей похвалой. Греки и «франки» называли его «вторым апостолом Павлом» и дивились его святости, мудрости и учености. В стихах Нерсеса Ламбронского меньше непосредственного вдохновения и преобладает рефлексия. То же надо сказать о стихах Ованнеса Ерзынкайского (иначе: Иоанна Плуза или из Дзордзора), от которого, кроме гимнов, сохранились еще стихи дидактического характера, «Хвала св. Григорию Просветителю» и работы научные: рассуждение о движении небесных тел, грамматический комментарий и др. Иоанн Ерзынкайский представлен в нашем сборнике отрывками дидактического содержания.
Однако все эти поэты религиозного направления – только наполовину поэты. Для них поэзия важна и ценна не сама по себе, а по выражаемым в стихах идеям; поэзия еще не цель, а средство. Иногда непосредственное дарование заставляет и гимнотворцев «Шаракана» как бы забывать о своих дидактических задачах. У Григория Нарекского, у Нерсеса Благодатного, кое-где и у других, встречаются строфы и целые стихотворения, в которых поэт свободно изливает свое чувство. Но почти всегда и таким созданиям поэты придают аллегорическое толкование, хотят, чтобы их слова понимались иносказательно. Таково, напр., стихотв. Григория Нарекского об «алмазной розе», в котором мы видим только живую картину природы, но комментаторы признают аллегорическое изображение Богоматери. Кроме того, все эти поэты ограничены в выборе своих тем, посвященных исключительно или библейским сюжетам, или выражению чувств благоговейных. Ограничен и однообразен также выбор образов, большею частью почерпаемых из Святого писания. Современность этим поэтам как бы чужда: то, что они видели ежедневно, что непосредственно волновало их и всех окружающих, проникало в «духовные песни» лишь случайными намеками. Религиозная поэзия, – еще не свободная поэзия, так как поэту заранее указано, о чем и как он должен писать. Вполне свободное художественное творчество в армянской поэзии мы находим лишь в созданиях следующего периода, – в средневековой лирике (XIII–XVI вв.).
Читать дальше