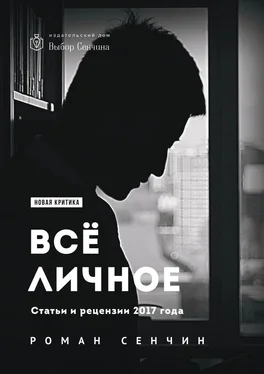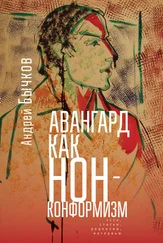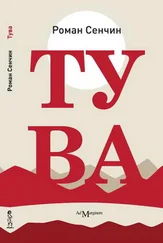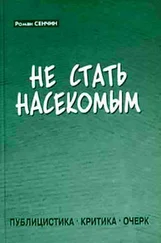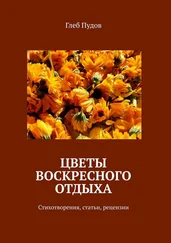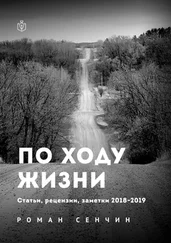Собственным размышлениям и рассуждениям автор отводит минимум объема. Главное и ценное – разговоры с людьми, впечатления, наблюдения. Юмора, иронии, столь популярных сегодня, в текстах искать не стоит, тем более что темы зачастую к ним никак не располагают, но юмор и иронию замещают яркость письма, острый и оригинальный ум автора.
Особенно получаются у Александра Гарроса интервью. Впрочем, это скорее диалоги равных, украшенные порой развернутыми ремарками. Задающий вопросы не очень почтителен к большинству тех, кому задает вопросы, но сейчас, когда большинство интервью берутся по электронной почте: я вам набор вопросов, а вы мне через день, другой ответы, спасибо, до свидания, – живой разговор, спор вызывают настоящий интерес, видится, не побоюсь этого слова, диалектика.
Среди тех, с кем ведет свои диалоги Гаррос – кинорежиссеры Алексей Герман, Сергей Бодров, писатели Захар Прилепин, Михаил Шишкин, Олег Радзинский, поэтесса Вера Полозкова, клоун Слава Полунин, продюсер Александр Роднянский… Думаю, каждый из них потом долго вспоминал этого парня, вторгшегося в их внутренний мир и изрядно там попутешествовавшего.
Книга «Непереводимая игра слов» в очередной раз спровоцировала меня задуматься ни много, ни мало о том, как и куда будет двигаться наша литература в самом ближайшем будущем. Хотя она и так двигается, и довольно быстро… Художественная проза и беллетристика теряют читателей. Буквально несколько авторов сохраняют высокие тиражи, у остальных, в том числе вроде как известных, награжденных разными премиями, книги выходят редко когда в количестве больше трех тысяч.
Зато разнообразный нон-фикшн постепенно читателей приобретает. От воспоминаний (зачастую написанных, а то и попросту надиктованных очень слабо, примитивно) до увлекательно изложенных кулинарных рецептов.
Где-то между беллетристикой и нон-фикшн находится золотая середина. Недаром в литературоведении приживается новый жанр – faction. Произведения, написанные на вполне документальном материале, но художественным языком… Вообще-то метод этот в литературе (в том числе и русской) не нов. «Слово о полку Игореве», как доказывают историки, документально до мелочей; «Житие протопопа Аввакума» – тоже.
Можно перечислять десятки произведений конца XVIII – XX веков, которые вполне подходят под faction. Но то ли в сердце, то ли в голове почти всех авторов сохраняется некая стена, отделяющая беллетристику от факта. И то, что большинство писателей зарабатывают на жизнь нынче журналистикой, публицистикой, эту стену только укрепляет. Днем человек – журналист, а по вечерам – художник. Наверное, самый показательный здесь пример – Дмитрий Быков. Впечатление, что статьи и стихотворные фельетоны он порождает одной рукой, а романы – другой…
Кстати, именно Дмитрий Быков написал для книги Гарроса предисловие, в котором есть подтверждающие мою мысль слова: «Я думаю, он (Гаррос . – Р. С. ) это писал не только и не столько ради заработка, хотя журналистика для писателя как раз и есть единственно возможное подспорье, когда не пишется или мало платят за написанное. Просто однажды эссеистика и журналистика показались ему интересней прозы, – и это важный тренд момента. Был период резкого изменения, перестановки акцентов: стало понятно про народ и про всех нас что-то, чего мы до сих пор не знали. И Гаррос выступил точным хроникером этой эпохи, – а художественное мы про нее напишем, когда она закончится».
Всё-таки странная идея – писать художественное об эпохе, когда она закончилась. Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов, Булгаков, Зазубрин, Шолохов и сотни более или менее талантливых не ждали. Этим во многом и ценны…
Книга «Непереводимая игра слов» Гарроса еще раз доказывает мне, что журналистика и публицистика готовы слиться с беллетристикой и художественной прозой. Язык помещенных в сборнике текстов художественный, материал – фактический. Герои статей и бесед – реальные люди и в то же время персонажи. Автор – формально журналист-публицист, но на деле сложный, сомневающийся, эмоциональный повествователь.
Недаром и тексты в книге даются не сплошняком, не хронологически, а своеобразными частями. То ли сам Александр Гаррос попытался выстроить сюжет, то ли редактор посоветовал.
«Непереводимая игра слов» имеет тираж 2000 экземпляров. Вряд ли их расхватают в магазинах, сомневаюсь, что будет допечатка – Гаррос не из медийных-популярных. Но искренне желаю книге как можно больше читателей и отзывов в прессе. Здесь есть что обсудить, о чем поспорить, что еще раз прокрутить в памяти.
Читать дальше