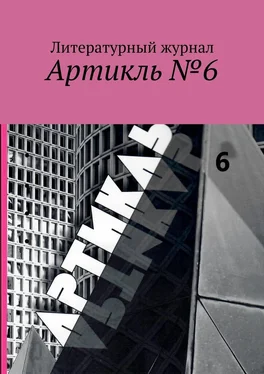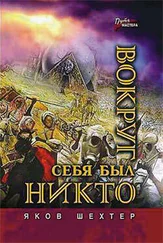– Да-да, я именно поэтому сюда все время возвращаюсь. Здесь история потихоньку сочится наружу как лава из кратера полу-потухшего вулкана.
– Как образно! Но мы совершенно отдалились от Чехова, вам не кажется?
Улыбки получились вымученными, и мы беспомощно замолчали.
– Тогда, может быть, вы мне просто покажете этот город, Неаннасергевна?
Он слегка повернулся ко мне и робко улыбнулся, но улыбка быстро погасла, натолкнувшись на мой тяжелый взгляд. Я быстро спохватилась и улыбнулась в ответ, но левый уголок рта, я знаю, предательски уехал вниз. И улыбка получилась иронической. Что поделать!
– Дмитрий Дмитрич, для главного героя-любовника вашего театра вы слишком нерешительны. Или это тонкая игра?
– Я и герой-любовник? Ну что вы? Я давно оставил роли любовников. Играю отцов и дедушек.
Льдистые глаза затуманились вместе с помрачневшими волнами. Потом показался проблеск быстрой улыбки. Самодовольной или все же робкой?
Герострат решил сменить тему.
– Неаннасергевна, вы меня засмущали совсем! Ну, так как, покажете мне город?
– Договорились!
В ста метрах от моря, на тихой, медленно разрушающейся главной уличке было одновременно сыро и душно. Впрочем, в районе второго этажа гулял свежий ветерок и грозил в любую минуту перерасти в леденящий шквал. Уж такая здесь погода. Миновав почту, оправославленную кирху, полуразрушенный невнятно-югенстильный универмаг с огромными зияющими проемами бывших панорамных окон и кое-где еще не конца ободранной бронзовой вязью, мы добрались до моего любимого дома. В угловом подъезде теперь был военкомат, а по центру красовался странный магазин с двусмысленной вывеской: «Ломбард Кокетка». То ли в нем было два отдела и хозяева просто сэкономили на точке между названиями, то ли местные кокетки имели обыкновение закладывать свои сокровища в ломбарде. На южной стороне дома сохранились балконы, теперь испещренные зловещими трещинами, сквозь которые прорастала трава. Но чугунные фигурные цепи все так же раскачивались на морском ветру, как и сто лет назад. Над входом примостилась маска с пустыми глазницами и открытым ртом. Не Талия, не Мельпомена, скорее предчувствие Мункова «Крика».
– Этот дом был построен по проекту Ольбриха. О нем забыли, он не включен ни в какие путеводители. Но здесь есть местный краевед, Иван Васильевич Фихте. Он обнаружил старые чертежи и письма и доказал, что это Ольбрих.
Как странно звучит мой привычно лекторский голос в таком месте.
– А кто это, Ольбрих?
– Как, вы не знаете Ольбриха?
– Нет, я не по этой части, знаете ли. И потом, от дома мало что осталось. А кто его разрушил?
– Время. Запустение. Равнодушие. Как вам такой ответ?
– Ничего, подойдет.
– А вы думали, у этого дома был свой Герострат?
Дмитрий Дмитрич закурил очередную коиба и поежился.
– Давайте зайдем внутрь. Стало как-то прохладно, вы не находите?
За порогом мы наткнулись на зияющий отсутствующими ступенями лестничный пролет, и Герострат подал мне руку и помог взобраться на второй этаж. Впрочем, руку я почти сразу же выдернула из его мягких пальцев. Терпеть не могу человеческие прикосновения. На втором этаже было пустынно и пыльно. Только на стенах кое-где остались неясные рисунки и пара витражей в окнах. В таких брошенных домах время течет ускоренно, потому ли что это время разрушения и забвения или по какой-то другой причине – неизвестно.
– И почему всё, чего касалась наша замечательная империя, немедленно приходило в упадок! Вы посмотрите, какой дом и во что его превратили! – не выдержала я.
– Я не люблю политики и в ней не разбираюсь, знаете ли. Я все больше в театре. А там не до политики. И потом, что вы имеете против империи? Она ведь была великой, что ни говори! И все нас боялись и уважали.
Мне стало скучно и показалось, что я зря провела с ним несколько часов. Как странно, а ведь поначалу мне почудилось… Нет-нет, именно почудилось. И я снова погрузилась в свои мысли, совершенно не слушая, о чем разглагольствовал Герострат.
Много лет прошло с тех пор, как я перестала приезжать в этот городок. Когда-то он мне очень нравился. Впрочем, я перестала приезжать и во все более провинциальную Москву. Но однажды меня неожиданно пригласили на конференцию в один из новомодных, насквозь американизированных университетов. И отчего-то я согласилась. Прочитав свой пленарный доклад и прослушав две невообразимо скучные секции, я сбежала в нарядный октябрьский город, неожиданно одаренный несколькими днями тепла и прозрачного печального света. Взгляд мой скользил по верхушкам щеголеватых кленов и скромных лип, и вдруг наткнулся на афишу старого театра, что был неподалеку. Это был театр моей юности, того относительно счастливого времени, когда казалось, что всё еще может быть хорошо. И мне вдруг захотелось пойти на любой спектакль, что я и проделала в тот единственный свободный московский вечер. Оказалось, что я попала на премьеру, но лучшие дни бывшей студии видимо остались там, в восьмидесятых. И поэтому мне удалось легко купить билет в первый ряд. Правда, я успела забыть, что он в этом театре находился буквально в шаге от сцены. Кресло было обшарпанным и пыльным. И у меня немедленно заболела спина. Когда выключился свет, я уже пожалела, что пришла. Но тут на сцену вышел он, остановился точно посредине и, глядя мне прямо в глаза, с какой-то дьявольской улыбкой сказал: «На людей надо смотреть с высоты. Я выключаю свет и становлюсь у окна; они даже не подозревают, что их можно разглядывать сверху…» И я мгновенно позабыла о неудобном кресле и буфетных запахах. И в течение следующих трех часов была абсолютно счастлива.
Читать дальше