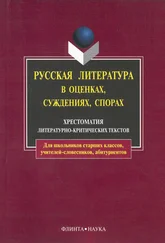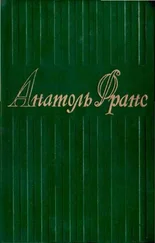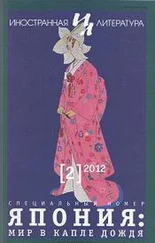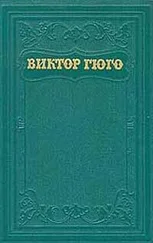«К моменту встречи со своим избавителем они уже сгорели в непосильной борьбе со злом, уже перешли грань, отделяющую жизнь от ее таинственного антипода».
В дневниковой записи 1864 года, которая родилась у гроба Марии Дмитриевны, писатель сверяет собственный опыт супружества с высшим идеалом, со Христом. Вслед за ним Л. А. Никонова измеряет уровень его семейного счастья мерой православного учения о жертвоприношении. Главная причина краха его первого брака видится ей в том, что « брачная жертва… была недостаточной». Это – великий грех, а значит – вечные страдания. Об этом нам говорит и Достоевский. «Дневниковая запись от 16 апреля 1864 года стала словом покаяния», – резюмирует Никонова, открывая тем самым неведомые тропы в прочтении романов Великого Пятикнижия. Она утверждает, что размышления о жертве у гроба жены соотносятся с главными православными таинствами – крещением, евхаристией и венчанием, в основе которых лежит именно жертвоприношение. По сути дневниковая запись Достоевского – это сверка «обетов венчания с их реальным воплощением в жизнь».
Второй брак Фёдора Михайловича, несмотря на «ряд поразительных совпадений» , повторов рассматривается как противоположность первого. Это – еще один шанс, дарованный провидением, но шанс, которым он воспользовался сполна:
«Этими повторами как бы подтверждалась неукоснительная воля Божия, ведшая Достоевского именно таким путем к торжеству христианского брака. Вновь повторились обряды, священнодействия и молитвы святого таинства, и вновь была принесена жертва Богу и друг другу. На этот раз это была полная жертва с обеих сторон».
Раздумья о жертве, которую необходимо положить на алтарь семейного и супружеского счастья, невольно навевают мысли о зерне. Том самом, что возникает в эпиграфе к роману «Братья Карамазовы»:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
Эти слова из Евангелия от Иоанна традиционно связывают с развитием всего романного сюжета. Братья Дмитрий, Иван и Алеша становятся на путь «восстановления погибшего человека» , о котором Достоевский говорил как о глобальной идее искусства XIX столетия. Принося жертву, каждый по своей мере, они должны войти в новую жизнь, преобразиться в иную форму.
Но идею крестного пути, то есть страдания и самопожертвования, которую воплощает эпиграф, стоит соотносить не только с основным текстом произведения.
В равной степени она принадлежит и посвящению.
Достоевский посвятил роман, то есть фактически принес жертву своим творчеством, милому ангелу – второй жене Анне Григорьевне. Семейная жизнь с ней стала для писателя символом того самого евангельского зерна – падшего во влажную землю, умершего и чудесным образом воскресшего вновь.
По следам одной газетной реликвии

Первым исследованием по теме «Ф. М. Достоевский в Кузнецке» считается одноименная статья Валентина Федоровича Булгакова, последнего личного секретаря Л. Н. Толстого. Она была опубликована 10 октября 1904 года в иллюстрированном приложении к газете «Сибирская жизнь» и стала настоящей реликвией.
Как музею Достоевского в Новокузнецке удалось стать обладателем подлинного экземпляра этой газеты – наш рассказ…
«Если хотите – передарена»
О существовании экспоната в коллекции писателя А. Э. Лейфера и намерении владельца передать его гослитмузею в Омске узнал научный сотрудник новокузнецкого музея Достоевского Владимир Семенович Пилипенко во время очередной конференции.
« На круглом столе подводились итоги, – вспоминает он. – Когда слово было предоставлено Александру Лейферу, тот вышел к аудитории с дореволюционной газетой в руках. Писатель держал ее в развернутом виде, бережно упакованную в целлофан. Я обомлел: это же подлинник, где напечатана знаменитая статья Булгакова! А Лейфер тем временем уже передавал в руки омских коллег свой бесценный подарок. Сердце кровью обливалось от того, что из Новокузнецка прямо на моих глазах ускользает уникальный экспонат…».
Новокузнечане стали уговаривать А. Э. Лейфера и омских музейщиков изменить свое решение. Благодаря их убедительности и настойчивости газетная реликвия 1904 года была, как выразился Лейфер, «если хотите – передарена» , и отправилась из Омска в Новокузнецк.
Читать дальше