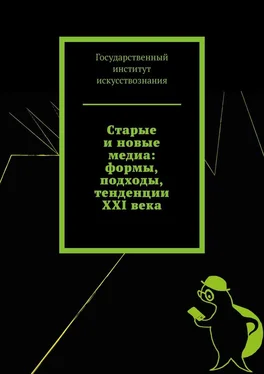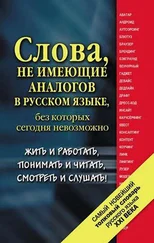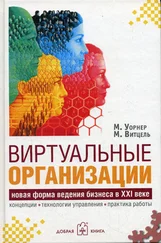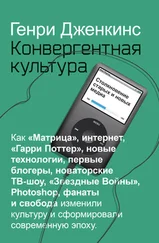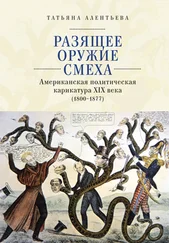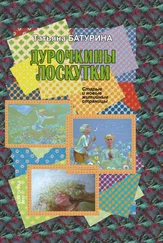Однако на него последовательно наслаивались и другие медиа, обретавшие все большую влиятельность и распространенность в Советском Союзе этого времени – Всесоюзное радио и советское кино, создававшие для «пропагандистского слова» емкий аудиальный и визуальный контекст. Слово стало не только читаемым, но и звучащим на радио ; кино же (а вместе с ним и фотография) сделало наглядными образы людей, произносящих важные слова, распространяющих словесно ключевые идеи эпохи и своим поведением, и речью демонстрирующих общественно необходимую деятельность. В результате «управляющие» культурой медиа, собранные в виде «пучка», приобрели синтетический и объемный, многомерный характер. Правда, и новые, технизированные «расширения» слова: радио, фотография и кино – по сравнению с вербализованной политикой в публицистической форме – имели второстепенный, подчиненный слову характер.
Неслучайно Сталин, придававший кино как средству пропаганды исключительное значение, полагал, что автор сценария фильма более значим, нежели кинорежиссер (которого представлял скорее как монтажера киноленты и организатора киносъемок). Отсюда его пристальное внимание к словесному тексту будущего и уже снятого кинофильма [7]. В то же время альянс вербального текста, его радиотрансляции и экранизации в кино представлял качественно новую фазу медиализации культуры, имевшую неожиданно сильный творческий эффект. Так, рождение «сталинского фольклора» (так называемых новин) в творчестве профессиональных носителей традиционного устного народного творчества произошло под влиянием на их исполнительство газетной периодики и политических радиопередач. Былинный эпос, зародившийся еще в Киевской Руси, легко был приспособлен для нужд тоталитарной культуры.
Прокофьевская кантата «Здравица», приуроченная к 60-летнему юбилею Сталина (включая гротескный псевдонародный текст, сочиненный самим композитором), также родилась на пересечении различных медиа (включая вымышленные «новины», музыкальную радиопропаганду и кинохронику, пропущенные через призму авторской иронии). Последний пример (не единственный в своем роде) наглядно свидетельствует о том, что каждая эпоха, даже такая замкнутая в себе, как сталинская, изнутри себя подготавливает себе на смену следующую, не только отличную от предыдущей, но подчас и прямо противоположную ей. В своем саморазвитии каждая архитектоническая ступень не только передает свое культурное наследие сменяющей ее системе, но и подспудно преодолевает свою ограниченность. Немалую роль в подобной двойственной трансформации играет феномен «ремедиации» [8], который удобнее рассмотреть на примере оттепели.
Короткая эпоха оттепели, обращенная фактически к тому же набору совмещенных медиа (печатная и визуальная публицистика, документальное и игровое кино, разнообразные радиотрансляции, к которым добавились начальные телепередачи), радикально пересмотрела содержание тех же медиа. Демократизация и десталинизация, гуманизация и психологизм, индивидуализация и жанрово-стилевой плюрализм – все эти черты, характеризующие обновление контента культуры после смерти вождя, актуализировались благодаря именно ремедиации, то есть более или менее радикальной трансформации системы медиа.
Вербальные, и особенно печатные, медиа ушли на второй план; напротив, визуальные и аудиальные медиа выдвинулись на первые места. Так, поэтический «бум» во многом был связан не столько с распространением сборников стихов, сколько с « эстрадизацией » поэзии, вышедшей на подмостки сцены и арены стадионов [9]. Поэзия стала звучащей, и в этом своем «иномедиальном» качестве она обрела новый смысл и новую популярность. Р. Щедрин в соавторстве и с участием А. Вознесенского создал «Поэторию», представлявшую собой музыкальное действо вокруг фигуры поэта – чтеца своих произведений. Поэтическое чтение было перенесено не только на концертную сцену и на радио, но и в кино («Застава Ильича» М. Хуциева), а затем и на телевидение. Многие литературные тексты обрели активную, публичную жизнь в результате театрализации и экранизации . Любимовский Театр на Таганке инициировал поэтический театр (по мотивам поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А. Вознесенского, В. Высоцкого и других). Поэзия обрела свою визуальность и перформативность.
Тенденция экранизации литературных произведений немного заявила о себе уже в конце сталинской эпохи («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера), но по-настоящему масштабно она развернулась только в 1950 – 1960-е годы («Овод» А. Файнциммера, «Чужая родня» и «Тугой узел» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Тихий Дон» С. Герасимова и другие). Вербальная медиализация культуры сама по себе постепенно теряла значение; на повестку дня выходила разнообразная интермедиализация контекста литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, кино. Такого расширения медийного контента сталинская эпоха не знала и в принципе не могла породить.
Читать дальше