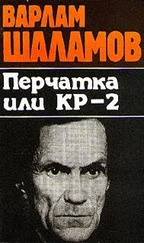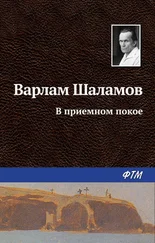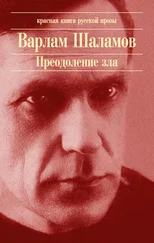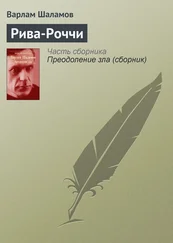— Давайте вовсе не пойдем.
— Нет, надо идти, раз уговорились. Если будет кто еще, скажете, что вы просите встречи завтра.
Но просить завтрашней встречи не пришлось. Нас приняли сейчас же. После Анна Андреевна говорила, что разговор не получился. Как бы он мог получиться? Я смотрел на нее как на медицинский сюжет. Потом Анна Андреевна жила в Ленинграде, в Комарове, a в Москву приезжала время от времени по делам или без оных, останавливалась y знакoмых и «давала приемы». Эти приемы Анна Андреевна собственноручно регистрировала в бархатной книге. Попасть на этот прием считалось честью, o времени сговаривались, <���нрзб>, уплотнялись не хуже. Я просто хотел ей рассказать кое о ком из личных ее знакомых, o судьбе которых я наводил справки на Колыме. Никаких таких сведений не потребовалось. Анна Андреевна, подбоченясь, излагала, как она боялась Парижа, <���боялась> поехать в Италию, на ней давно уже не было того самого единственного шерстяного платья, которое лопнуло во время неосторожного и слишком резкого движения во время одного из приемов. Я мог бы обо всем этом напомнить, переспросить, авторизировать, так сказать, этот роскошный эпизод. Вместо этого я слышал только трескотню o том, как она боялась в Париже — чего, неизвестно. Все выглядeло низкопробным балаганом, ординарным спектаклем, и я попробовал прервать эти ламентации, почитать стихи, чего в сущности слушать я не люблю и сам, не читаю в гостях. Анна Андреевна развернула свою бархатную тетрадь и читала, читала рукопись пьесы какой-то. Наконец, мы распрощались. Антенна моя так была настроена четко, так отлично работала, что несмотря на этот репремант неожиданный, я легко написал несколько стихотворений о ней. Анне Андреевне было o чем заботиться, таланта y нее большого не было, и выяснилось это в первых же книжках, в «Четках», в «Белой стае». Москву приучали тогда к «Поэме без героя». «Поэму без героя» я читал еще на Колыме сразу после войны не то y Португалова, не то y Добровольского [165], a потом перечел ее повнимательнее в Москве. Хочется возразить самым решительным образом Чуковскому [166], который хвалил эту поэму за новизну стихотворного размера, гениальное новшество. Это гениальное новшество было плагиатом Анны Андреевны y Михаила Кузмина «Форель разбивает лед». Заимствование поэтической интонации еще y современника — тяжкий грех поэта, тяжкий грех и критика, не заметившего грубого плагиата. Время было какое-то шаткое, Журавлев [167] отомстил Ахматовой, напечатав ее собственные стихи под своей фамилией. Чего не бывает в поэзии, чего не бывает в поэтическом быту? Все стихотворения Ахматовой последних лет — не более, как возвращение на позиции символизма, победа символизма над акмеизмом — этой узенькой тропой русской поэзии, где не удержалась ни Ахматова, ни Мандельштам, ни Гумилев, ни Зенкевич, ни Нарбут. Начинала Аxматова, прямо сказать, отлично, и хоть Троцкий [168] называл ее «гинекологической поэтессой», это-то не должно было смущать Анну Андреевну. Даже я, существо и поэт нынешнего, послеахматовского века, прошедший через футуристический нигилизм Маяковского, Асеева, испытавший личное давление фактовика Сергея Михайловича Третьякова, отдал должное ахматовским строкам. Даже один из моих романсов начинался цитатой из Ахматовой:
Не смотри ты, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя,
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я [169].
<1970-е> [90] Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. — М., 2005. — С. 193–198.
Блок не любил Ахматову. Вся история их личных отношений — а они были знакомы друг c другом около десяти лет и жили в одном городе — Петербурге — представляет собой историю уклонения Блока от всякого более короткого знакомства. Когда через 40 лет после смерти Блока Ахматова обратилась к своей памяти [170], оказалось, что ей нечего сказать o Блоке. И это не случайно, и возникло по причине самого Блока, а не Ахматовой. Историки литератypы и литературоведы пытаются затушевать это обстоятельство биографии двух поэтов и совершенно напрасно.
Почему Надежда Яковлевна c такой настойчивостью заставляет думать о старческом склерозе, считая нужным упомянуть c первой фразы знакомства:
— Вы знаете, конечно, что существует два акмеизма: один Гумилева [171] и Городецкого [172], другой — Ахматовой и Мандельштама. Так вот мы — из этого второго течения.
Никакого второго течения тут нет, a еcть желание избежать смертельного удара Блока [173], ибо в предсмертной статье «Без божества, без вдохновенья» Блок громил Гумилева и Городецкого, выделяя из «Цеха» Ахматову как пример «печальной лирики», не соответствующей миру акмеизма.
Читать дальше