...Но сердце ей говорит: «Я хочу еще больше изведать счастья! Я хочу выпить чашу до самого дна!» — «Нет, пусть она лучше останется недопитой: ведь на дне ее может оказаться отрава. Так лучше!» — говорит Ядвися своему сердцу, но оно никак не соглашается с ней. Ядвися старается думать о другом: о дороге, о том неведомом, что ждет ее впереди».
Рядом с этим рефлексия Лобановича — уже «чисто литературная».
Ядвися приехала домой после того, как она гостила у тети. Лобанович долго и мучительно ждал ее, но как только услышал, что она приехала, вдруг решил, что «назло» ей (и себе тоже) пойдет куда-нибудь, «чтоб не думала».
«Нет! Это он хорошо придумал: что бы там ни было, а в Хатовичи он пойдет.
На этом решении Лобанович остановился окончательно.
Вот только вопрос: как рано он отправится в дорогу? Не лучше ли пойти попозже и тем самым дать возможность Ядвисе убедиться, что он наверняка знает о ее приезде и тем не менее уходит из Тельшина. Он даже постарается выйти из дома тогда, когда она будет стоять возле окна либо выйдет во двор, а он пройдет мимо с таким видом, будто это стоит не она, а какая- нибудь Параска, до которой ему очень мало дела. А если придется и встретиться с нею, то, что ж, он скажет: «День добрый!» Даже и поговорит с нею о самых обычных пустяках... Сделав несколько шагов, Лобанович увидел хорошо знакомую фигуру Ядвиси. С ведерком в руке она быстро шла к колодцу. Внезапный трепет пробежал по жилам учителя, а его сердце взволнованно забилось. Как похорошела она за эти три недели!.. И как сильно тянуло его к ней...
Радость, искренняя радость отразилась на лице Ядвиси...
Но Лобанович совладал с собою. Даже и тени радости не выказал он при виде девушки, хотя, поравнявшись с нею,— а Ядвися стояла и ждала его,—он довольно приветливо сказал:
— День добрый!..
—...А куда же вы собрались?
— Надумал в волость наведаться...
— И ничего вам здесь не жалко оставлять? — спросила Ядвися, и глаза ее заискрились лукавой улыбкой. Смысл этого вопроса был ясен для них обоих...
— ...А вы скоро думаете вернуться? — спросила Ядвися.
— И сам хорошо не знаю. Увижу там,— ответил Лобанович, уже отойдя на несколько шагов.
Он еще раз поклонился и зашагал так быстро, будто хотел показать, что ему некогда разговаривать с ней.
Во время разговора с Ядвисей Лобанович чувствовал, что совершает насилие над собой, говорит совсем не то, что думает и что чувствует в действительности. «Зачем я, как вор, таюсь от нее и от людей,— думал, идя улицей, учитель.— Почему не сказать ей, что я так искренне и так сильно полюбил ее? И правда: зачем я так виляю, зачем заметаю свои следы, сбиваю ее с толку? К чему эта ложь? Неужели так поступают и другие?»
Конечно, так и поступают. Печорин, например. А герои Ф. М. Достоевского — тем более, они вообще не умеют любить, не принуждая другого и самого себя страдать.
Так что же — характер этот из книг списан Коласом? Ничуть! Он целиком из жизни. Образ Лобановича даже автобиографичен. Другое дело, что ключ к психологии такого героя раньше побывал в руках и у Лермонтова и у Достоевского. Кроме того, нельзя забывать, что многие герои классической литературы стали некой реальностью. Они словно бы ходят, борются, любят, живут в среде реальных людей. Они непосредственно влияют своим примером, своим умом и чувствами на все новые и новые поколения. И вот если какой-нибудь писатель «выуживает» из жизненного моря реальный характер, в нем, в совсем реальном прототипе, многое может быть окрашено книгой, знакомыми «пушкинскими», «толстовскими», «лермонтовскими» или другими книжными красками.
Размышляя о литературном влиянии, мы подчас игнорируем такой путь влияния литературы на саму жизнь, а затем через нее и на писателя. Татьяна Ларина — вся из русской жизни. Но этот русский женский характер формировался под сильным влиянием английского сентиментального романа, который до утра дремал у девушки под подушкой.
А Дон-Кихот Ламанчский! Разве не рыцарский роман формировал этот характер?
Правда, и Пушкин и Сервантес иронически относятся к литературным увлечениям своих героев, подчас склонным к имитациям...
Я. Колас как раз вполне серьезно рисует «печоринские» поступки и переживания Лобановича в сценах, которые мы приводили.
Есть в этой чрезмерной серьезности некоторая литературная наивность, характерная для молодой белорусской прозы вообще. А может быть, и полемичность, которую мы ощущаем и в драматических поэмах Я. Купалы и которая связана с желанием показать, что белорусская литература не собирается замыкаться только в простых формах и простых характерах.
Читать дальше


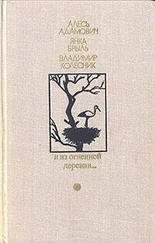
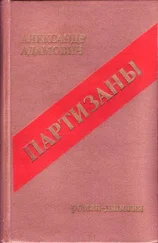
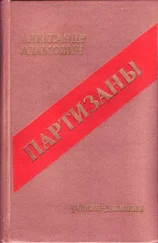





![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)

